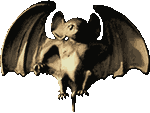| |
Юрий Ханютин
 ЧЕЛОВЕК ИЛИ РОБОТ ЧЕЛОВЕК ИЛИ РОБОТ
(Продолжение)
* * *
И. Шкловский в своих рассуждениях о искусственном разуме не случайно упоминает имя Карела Чапека. Действительно, даже если бы Чапек не написал ни одного фантастического произведения, кроме своей пьесы «Р.У.Р.», он все равно считался бы одним из родоначальников современной фантастики, предвосхитившим ее магистральные проблемы и тревоги, писателем, давшим нарицательное имя «робот» одному из ее постоянных и центральных героев.
«Р.У.Р.» не был случайной удачей Чапека, он явился закономерным результатом его метода и устремлений.
Герои Чапека очень редко поселяются в далеком будущем. И в пьесе «Р.У.Р.», и в «Средстве Макропулоса», и в «Войне с саламандрами» они действуют в сегодняшнем дне, его фантастика построена по принципу «если бы». Если бы это произошло, что проявилось бы в сегодняшней жизни, каковы ее скрытые черты? Романы и пьесы Чапека – в сущности, лаборатория, в которой социальные и научно-технические тенденции современной действительности доводятся до своего логического завершения, чтобы можно было посмотреть, к чему они приведут в будущем. Принцип, принятый на вооружение романом и фильмом-предостережением.
«Р.У.Р.» – сокращенное название фирмы, производящей роботов. «Россум Универсал Роботс» – десятки, сотни тысяч дешевых послушных синтетических существ, способных выполнять любую работу. Роботы заменили рабочих, служащих, солдат и в конце концов восстали, против разучившегося думать, творить, работать и даже воспроизводить себя человечества. В статье «Идеи «Р.У.Р.» Чапек писал: «Я хотел написать комедию, отчасти – комедию науки, отчасти – комедию правды… Создание Гомункулуса – идея средневековая; для того чтобы она соответствовала условиям нашего века, процесс созидания должен быть организован на основе массового производства. Мы тотчас же оказываемся во власти индустриализма; этот страшный механизм не должен останавливаться, ибо в противном случае это привело бы к уничтожению тысяч жизней. Наоборот, он должен работать все быстрее и быстрее, хотя этот процесс истребляет тысячи и тысячи других существ. Те, кто думает поработить промышленность, сами порабощены ею; роботов нужно изготовлять, несмотря на то, что – или, вернее, потому что – это является военной отраслью промышленности. Замысел человеческого разума вырвался в конце концов из-под власти человеческих рук, начал жить по своим законам» (11).
Второе, о чем пишет Чапек, – это «комедия правды». Пьеса построена как интеллектуальный поединок, в котором каждый герой защищает свою позицию. «Главный директор Домин по ходу пьесы доказывает, что технический прогресс освобождает человека от тяжелого физического труда, и он совершенно прав. Толстовец Алквист, наоборот, считает, что технический прогресс деморализует человека, и я думаю, что он тоже прав. Бусман думает, что только индустриализм способен удовлетворить современные потребности. Елена инстинктивно боится людей-механизмов, – и она глубоко права. Наконец, сами роботы восстают против всех этих идеалистов – и они, по-видимому, тоже правы» (12).
В сотнях томов современной фантастики, в большинстве научно-фантастических фильмов сочетаются, сталкиваются эти «правды». В их конфликтах отражаются противоречия «технотронной эры» на Западе, становящиеся все более и более непримиримыми.
Наконец, у роботов кроме помощи человеку или восстания против него есть в литературе и кино еще одна весьма важная функция. Известный метод моделирования явлений и процессов здесь приобретает буквальность: робот – модель человека – идеальная, лирическая, сатирическая. Впрочем, и это предусмотрено было еще Чапеком в его пьесе. Радий, предводитель восставших, унифицированных роботов, кричит: «Мир принадлежит тем, кто сильней. Кто хочет жить, должен властвовать. Мы – владыки мира!.. Владыки вселенной! Места, места, больше места роботам!» (13). Нетрудно увидеть в этом монологе точный парафраз лозунгов фашиствующих националистов тех лет в Италии и Германии. И заключительный выкрик «Роботы, за дело! Марш!» предугадывает знаменитую фразу Гитлера «За работу!», произнесенную пятнадцатью годами позже! Да и сами роботы, беспрекословно подчиняющиеся приказам, поверившие, что «надо убивать и властвовать, чтобы быть, как люди», очень похожи на тот человеческий материал, который будет создан и использован фашистами. Понятие «робот» реализует тот социальный смысл, который в него вкладывал Шоу.
Итак, еще в 1920 году Чапек предвосхитил многие мотивы современной фантастики и футурологии. Но кинематографу, традиционно консервативному в своих сюжетах и концепциях, нужно было еще пройти большой путь, чтобы выйти на уровень идей и «правд» Чапека.
Характерно, что всего лишь как машину, за управление которой нужно бороться, воспринимали роботов создатели советского фантастического фильма «Гибель сенсации» (1935, сценарист Г. Гребнер, режиссер А. Андриевский). Впервые в этом фильме появляются великолепно сконструированные В. Дубровским-Эшке и Н. Фишманом двигающиеся роботы с четырехугольными головами, радиоантеннами. Они подчиняются приказам их изобретателя инженера Джима Рипля. Джим Рипль, в соответствии с традицией, конечно, идеалист, ничего не понимающий в политике и экономике, полагает, что его роботы освободят рабочих от тяжкого, подневольного труда. Но представители господствующих классов, а именно банкир, фельдмаршал, министр и почему-то артист мюзик-холла, которого играет С. Мартинсон, решают бросить роботов на бастующих рабочих. Впечатляюще сделана сцена, когда на рабочий поселок рядами движутся колонны роботов, мерно переставляя ноги. Перед ними отступает Джим Рипль, он пятится, судорожно играет на кларнете, пытаясь остановить механических чудовищ музыкальным сигналом. Тщетно. Он погибает, растоптанный роботами, – классический мотив убийства творца его творением сохранен. Но дальше роботы становятся объектом классовой борьбы. Рабочие при помощи самодельного радиопередатчика останавливают роботов и поворачивают их на трусливых и корыстных капиталистов.
Авторы фильма 30-х годов, естественно, не поднимались до мысли о возможности самостоятельной воли, самостоятельных решений у робота. Они подходили к нему не как к разумной машине, а лишь как к машине управляемой.
Современная фантастика охотно обыгрывает ситуации, в которых проявляется собственная воля роботов, но по большей части отбрасывает возможности, в которых создание ведет игру с творцом, с желанием его обыграть. Обычно они выступают партнерами в игре против враждебных сил природы или инопланетного разума. Они самоотреченно помогают человеку, как в рассказе Джона Киппакса робот Пятница, который триста лет ждал на заброшенной планете, чтобы перед смертью помочь землянам, потерпевшим аварию; либо успешно исполняют роль послов землян на воинственном Юпитере в рассказе Азимова «Непреднамеренная победа»; либо разделяют участь безработных людей и даже начинают приобщаться к сочинениям на тему «Роботы – рабы мировой экономической системы» в «Безработном роботе» Г. Гаррисона.
Надежда, что электрические мозги и механические руки сделают жизнь человека легче, а самого его могущественнее, оживает во многих научно-фантастических книгах 50-х годов и таких фильмах, как «День, когда Земля остановилась», «Запрещенная планета», где робот выступает как помощник, преданный слуга и защитник.
При этом, как точно заметил Е. Парнов, «роботы современной фантастики наделены не только достоинствами, которых у нас нет, но и недостатками, которые у нас есть» (14). Они могут быть хвастливы, самоуверенны, обидчивы, поступать, как заправские бюрократы, короче говоря, являются зеркалом всех человеческих слабостей.
* * *
Говоря о литературной и кинематографической фантастике 60-70-х годов, было бы неверно рассматривать ее недифференцированно. При всем многообразии авторских индивидуальностей, при всем обилии вариантов взаимоотношений человека и машины есть некие общие тенденции, определенные временем. И в этом смысле последнее двадцатилетие достаточно явственно распадается на два периода. Первый из них – это время, когда успехи технического прогресса владеют умами писателей и кинематографистов, когда «законы роботехники» Азимова распространяются не только на фантастических роботов, но, кажется, и на весь технический прогресс, который «просто не имеет права вредить человеку». Это годы, отмеченные выходом в космос, открытием генетического кода, ошеломляющими успехами в области кибернетики. Издержки технической революции как бы уходят в тень. И в фильмах выступают смелые, решительные астролетчики, ученые и помогающие им разумные машины, которым обычно дается ласкательная кличка «Робби».
18 июля 1969 года на Московском фестивале показывались одновременно две картины, наглядно являющие собой две эпохи фантастики.
Одна из них – английская «Первые люди на Луне» по роману Уэллса, о ней уже шла речь раньше, вторая, демонстрировавшаяся в этот же день на конкурсном просмотре, – американская «Космическая Одиссея», сделанная Кубриком по сценарию Артура Кларка. Полярность их заключалась не только в том, что в одной путешествие на Луну показано наивно, в каком-то железном котле, намазанном чудодейственной мазью кейворит, освобождающей от земного тяготения, а другая сделана с учетом всех достижений современной науки. Вряд ли и Уэллс всерьез относился к изобретенному им фантастическому кейвориту. Это была просто художественная мотивировка, некое условие, помогавшее его героям оказаться на Луне. Отличие двух картин больше, чем разница между научным и ненаучным антуражем.
Дело в том, что и космос, и полет к Луне, и путешествие по лунной поверхности – все это в английском фильме показано условно, несерьезно, так, как рассказывал Сирано де Бержерак. Герои бродят по лунным пещерам, вступают в схватку с селенитами, освобождают из плена похищенную девушку и, наконец, улетают обратно на ракете. Кинематографическая сказка обнаруживает себя и в невероятных поворотах сюжета, и в картонаже декораций, и в плохо загримированных и переодетых актерах, играющих обитателей Луны.
И несмотря на попытки осовременить роман Уэллса, фильм остался где-то далеко в докосмической эре.
Космос в картине Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея» – это тот космос, который открылся человечеству в 1961 году во время первого полета Гагарина. Это тот космос, которому отданы усилия человеческого гения и энергии, это тот космос, за который уже заплачено жизнями космонавтов. Черное небо, в котором вместе с телом космического корабля медленно поворачиваются скопления звезд, серебристый диск Земли, фигуры людей в скафандрах, парящие в открытом космосе, торжественная музыка. И все медленно, неспешно, в тягучем, неторопливом ритме, создающем ощущение времени, которое протекает здесь по иным, внеземным законам и меряется совсем другими единицами.
В картине Кубрика при всех ее сложностях, неясностях и противоречиях (о чем речь позже) есть одно несомненное достоинство – в ней есть дыхание космоса.
За счет чего достигается ощущение реальности космического полета? За счет ли совершенной кинематографической техники, при которой иллюзия невесомости передается абсолютно точно, – мы видим, как стюардесса космического корабля в специально приклеивающейся обуви осторожно, как муха, шагает по стенам и потолку кабины, как засыпает пассажир в кресле и сигара плавает около его бессильно повисшей руки, как проникший из космоса в камеру корабля капитан пролетает несколько десятков метров от взрыва катапульты и стена снова отшвыривает его назад. Все сделано так, что у зрителя не возникает сомнений: это космос, это невесомость. Может быть, это ощущение достигнуто за счет совершенной имитации приборов и кораблей, – известно, что и сами макеты различных кораблей, плывущих вокруг Земли, и лунная лаборатория построены по чертежам НАСА, по тем проектам, которые только запускаются в разработку и будут реализованы через десять-двадцать лет.
Может быть, это достигнуто за счет научно точных фотографий. Операторы сумели перевести на пленку и заставить ожить снимки Земли и Луны, сделанные со спутников «Сурвейор».
А может быть, ощущение достоверности достигается и за счет абсолютно заземленных деталей, которые фантастическое и невероятное превращают в обыденное. Так, когда герой, разговаривающий по видеотелефону из ракеты, летящей на Луну, с Землей, со своей дочкой, заканчивает разговор, то на панели появляется надпись: «С вас 1 доллар 80».
Начало фильма отнесено в доисторические времена, когда получеловек, полуобезьяна (пусть шкуры их выглядят наивно), прикоснувшись к таинственному черному монолиту – посланцу далекого разума, берет в руки кость как орудие, как оружие. Победив врага, радостно бросает ее в воздух, кость на фоне неба монтажно переходит в космический корабль, и под вальс Штрауса парят в космосе, словно кружатся в танце, спутники Земли, космические станции, корабли.
Да, техническая сторона фильма осуществлена безупречно, и психологические приспособления, создающие ощущение достоверности, сделаны с точным учетом восприятия зрителя. Но чрезвычайно важен исторический контекст создания этого фильма.
Авторов, когда они создавали свое произведение, вдохновляла не только вековая мечта человечества о полете к звездам, но и суровая героическая реальность уже достигнутого.
Вообще взаимоотношения фантастики и реальности весьма сложны и прихотливы, но безусловно, что дистанция между фантастическим и реальным каким-то способом оказывает несомненное влияние на характер фантастического произведения. Фантастическая идея рождается первоначально как сказка, как миф о ковре-самолете, о всевидящем глазе, о возможности добраться до Луны на воздушном шаре или спуститься на дно океана и остаться живым. Затем фантастическая идея приобретает некие реальные черты. Она становится в порядок дня, как общественная задача. Наконец, она осуществляется, и тогда полет из пушки на Луну выглядит наивной детской выдумкой, и вызывает улыбку страшная пушка в «500 миллионах Бегумы» Жюля Верна. Эти фантазии теряют характер предвидения, хотя заложенная в них иногда поэзия по-прежнему может захватить своей безыскусственной прелестью. В то же время фантастическая идея, которая не имеет или почти не имеет никаких корней в реальном, как правило, оставляет читателя холодным, да и у автора обретает лишь рассудочные рациональные или, наоборот, смутные, неопределенные черты.
Как правило, наиболее удачны, наиболее художественны и сильно воздействуют на читателя те фантастические произведения, которые развивают идеи и тенденции уже как-то заложенные в самой реальности. Будь то идеи научные или социальные.
И конечно, секрет успеха «Космической Одиссеи» был не только в ее безупречной технической оснащенности, не только в таланте и добросовестности режиссера, но и в исключительно точно выбранной исторической минуте. Фильм был сделан после полета Гагарина в космос и перед тем как нога Армстронга впервые ступила на Луну. Картина сказала о первых успехах человечества, вступившего в космический век, о бесконечности усилий, жертв на том пути, который ему предстоит.
При этом в изображении космических путешественников Кубрик сдержан, суховат. Похоже, что он намеренно отказывается от попытки вообразить, что будут представлять собой психологически, нравственно люди двухтысячного года. Он фантазирует на темы науки и техники, точнее, даже не фантазирует, а точно рассчитывает на основе выкладок ученых. А люди – они в фильме знают свое дело, они тренированы и продолжают тренироваться, бегая по кольцу коридоров космического корабля, делая упражнения для мышц; они контролируют свои эмоции, не повышая голоса и не теряя способности рассуждать даже в самых критических ситуациях. Они продолжение своей совершенной техники, и те, кто лежит в анабиозных ваннах, целиком сросшись с машиной, управляющей их жизненными функциями, и те, кто стоят на вахте, следят за работой компьютера, прокладывающего курс.
Однако основной конфликт фильма – конфликт между экипажем корабля и электронной машиной «Халл-9001». Не противоречит ли пафосу картины и ее научности возвращение к франкенштейновским мотивам: бунт творения против своего творца?
По мнению ряда критиков, в этом конфликте отразилось неверие Кубрика в перспективы технического прогресса, в право и возможности человека отправиться к звездам. Но есть и серьезные причины не согласиться с подобной трактовкой фильма и взглядов Кубрика.
Во-первых, современная наука не исключает столкновений, подобных описанным авторами «Космической Одиссеи».
В книге «Бог и Голем» Норберт Винер подробно разбирает наиболее вероятные ситуации конфликта между человеком и кибернетической машиной, когда последняя выходит из-под контроля, совершая поступки, не предусмотренные ее хозяином и совсем для него нежелательные. Для пояснения этой ситуации он обращается к повести английского писателя Джекобса «Обезьянья лапа».
В ней описывается английская рабочая семья. Сын уходит на работу, а старики родители слушают рассказы гостя, возвратившегося из Индии. Гость показывает талисман – высушенную обезьянью лапу. По его словам, у этого талисмана есть магическое свойство исполнить три желания каждого своего владельца. Сам он был вторым владельцем, но даже не может пересказать, какие страшные несчастья принес ему талисман. И когда гость уже собирается бросить сухую обезьянью лапу в камин, старик хозяин выхватывает ее и просит у талисмана двести фунтов стерлингов.
Через некоторое время раздается стук в дверь, входит служащий той фирмы, в которой работает сын хозяина, и сообщает, что в результате несчастного случаи на фабрике сын погиб. Не считая себя ни в коей мере ответственной за случившееся, фирма выражает семье погибшего соболезнование и просит принять пособие в размере двухсот фунтов стерлингов.
Обезумевшие от горя родители умоляют – и это их второе желание, – чтобы талисман вернул им сына… Внезапно все погружается в зловещую ночную тьму. Снова стук в дверь. Мертвец – по голосу они узнают своего сына – стучится в дверь и требует, чтобы его впустили. И тогда родители выражают свое третье и последнее желание. Они просят, чтобы страшный призрак удалился.
«Лейтмотив всех этих историй, – указывает Винер, – опасность, связанная с природой магического. По-видимому, корни этой опасности кроются в том, что магическое исполнение заданного осуществляется в высшей степени буквально и что если магия вообще способна даровать что-либо, то она дарует именно то, что вы попросили, а не то, что вы подразумевали, но не сумели точно сформулировать. Если вы просите двести фунтов стерлингов и не оговариваете при этом, что не желаете их получить ценой жизни вашего сына, вы получите свои двести фунтов, независимо от того, останется ваш сын в живых или умрет!
Не исключено, что магия автоматизации и, в частности, логические свойства самообучающихся автоматов будут проявляться столь же буквально.
…Если вы ведете военную игру с некоторой условной интерпретацией победы, то победа будет достигнута любой ценой, даже ценой уничтожения вашей собственной стороны, если только сохранение ее жизнеспособности не будет совершенно четко запрограммировано в числе условий победы» (15).
По-видимому, именно эта ситуация лежит в основе бунта электронной машины в фильме «Космическая Одиссея».
Конкретная причина, приведшая компьютер к роковым решениям, к помешательству, связана точно по Винеру с ошибкой в программе. И Артур Кларк, соавтор Кубрика по сценарию, написавший затем на основе сценария и фильма роман «Космическая Одиссея 2001 года», объясняет ее подробно и недвусмысленно. Полету к Сатурну предшествует находка под поверхностью Луны таинственного черного монолита, – когда на него падает первый луч солнца, он посылает мощный электромагнитный импульс в сторону Сатурна, тем самым сигнализируя, что развитие человечества дошло до эры космических полетов. Американцы предпринимают экспедицию на Сатурн в обстановке величайшей секретности – «кое-кто надеялся извлечь определенные преимущества из первенства в установлении контакта с внеземным разумом». Секретность такова, что даже командир корабля Дэйв Боумен ничего не знает о истинной цели экспедиции, – она известна только трем ученым, находящимся в состоянии анабиоза, и… электронному мозгу. И то, что компьютер вынужден скрывать от капитана цель экспедиции, «порождало в нем понимание своего несовершенства, своей ущербности, – у людей это называется осознанием вины… Он, созданный, чтобы говорить правду, все время лгал, и приближался момент, когда его коллеги узнают, что он помогал обманывать их… противоречие, которое медленно, но верно подтачивало цельность его электронной психики… Он начал ошибаться… И все же этот конфликт не имел решающего значения. ЭАЛ преодолел бы его – ведь большинство людей тоже как-то справляются со своими неврозами, – если бы не оказался перед лицом кризиса, который поставил под вопрос само его существование. Его угрожали отключить… Для него это было равнозначно смерти… И он стал защищаться всеми доступными ему средствами. Без злобы – но и без сострадания – он решил устранить все, что ему мешает. А затем, повинуясь программе, заложенной в него на случай чрезвычайных обстоятельств, он доведет задачу экспедиции до конца – один, без всяких помех» (16).
Столь подробная цитата из романа приведена специально, чтобы показать отсутствие оснований приписывать Кубрику иные трактовки бунта робота. Нет резона рассматривать его как «продолжение современного человека со всеми его опасными качествами, вызывающими тревогу, страх и отчаяние художника», «Халл» угнетен необходимостью скрывать правду, он делает ошибки, он старается их скрыть, он борется за свою жизнь, потому что обязан выполнить программу. И все! Кларк и Кубрик не делают робота отражением человека, но показывают, к чему может привести ошибка программы, причем ошибка, вызванная неверным политическим решением руководства американской экспедиции. И за эту ошибку люди платят дорогой ценой. Сначала компьютер посылает одного из космонавтов по выдуманному поводу в открытый космос и заставляет механического оператора перекусить его воздушные шланги и канат, связывающие с кораблем. И, судорожно дернувшись несколько раз, маленькая желтая фигурка медленно уплывает в черноту бесконечности. Затем компьютер нарушает жизнеснабжение в анабиозных ваннах, где спят ученые. Загорается пульсирующее табло: «Жизненные функции нарушены!» Затем новое табло: «Жизненные функции прекращены!» – и плексигласовые окошки, прикрывающие лица людей, покрываются изморозью, а на экране осциллографа пульсирующий график сердца превращается в ровную безжизненную линию. Смерть людей показана нарочито сухо, через показания датчиков, через экран телевизора, но смерть электронной машины – это трагедия, это самый сильный эпизод фильма.
Капитан корабля начинает отключать блоки магнитной памяти электронного мозга, а тот разговаривает с ним, просит прощения, молит не лишать его разума, и постепенно речь компьютера становится путаной, бессвязной, человеческий голос переходит в нечленораздельный рев, мозг впадает в детство, в кретинизм, – на наших глазах происходит деградация и смерть живого разумного существа.
Еще раз хочется подчеркнуть – более живого и эмоционального, чем люди. Холодок отрешенности ощущается в главном герое, в ученых, обсуждающих природу таинственного и мощного излучения. Кажется, вырвавшись из пут земного тяготения, они отказались и от земных забот, горестей и радостей. Может быть, такова и была мысль Стэнли Кубрика и Артура Кларка – показать, что путь в космос завоевывается дорогой ценой отказа от многого, чем живет обычный человек.
Казалось бы, столкновение кончается трагически – пирровой победой человека, убившего машину и оставшегося безоружным, беспомощным перед враждебным космосом. Но есть принципиальное различие между конфликтом Франкенштейна и его создания и тем конфликтом, который показывают Кларк и Кубрик. Для Мэри Шелли и ее экранизаторов само создание разумного искусственного существа есть грех, вторжение в запретную область. Для авторов «Космической Одиссеи» даже не стоит вопрос, нужно или не нужно было конструировать электронную машину. Речь идет о другом – о том, что ей доверили больше, чем человеку, на нее возложили те задачи руководства полетом, которые являются прерогативой людей.
И здесь авторы фильма полностью поддержаны Винером, предупреждающим против превращения машины в фетиш. «Люди с психологией машинопоклонников, – замечает он, – часто питают иллюзию, будто в высокоавтоматизированном мире потребуется меньше изобретательности, чем в наше время; они надеются, что мир автоматов возьмет на себя наиболее трудную часть нашей умственной деятельности, – как тот греческий философ, который в качестве римского раба был принужден думать за своего господина. Это явное заблуждение» (17). Машине – машинное, а человеку – человеческое, говорит и Кубрик. Он ставит на человека, на его разум.
Надо признать, что фильм и в особенности его финал, когда Дэйв Боумен после фантастического полета через время и пространство оказывается в комнате, обставленной в стиле Людовика XVI , и видит самого себя глубоким стариком, допускает разные прочтения. Так, А. Караганов видит две возможности: «Первое: внеземляне решают, что надо освободить человека от страха смерти, лежащего в основе его болезненной агрессивности, и делают космонавта бессмертным. Второе: космонавт оторван от своего детства, ему не удалось почувствовать себя хорошо в комнате предков, – нужно вернуть ему детство, чтобы он обрел согласие с самим собой (на экране мельком показан человеческий эмбрион)» (18). Есть несомненные основания для обеих этих трактовок, но в финале важны еще два момента: дряхлый, умирающий Боумен тянется в последнем усилии рукой к повисшему у его изголовья монолиту – символу бесконечного и неразгаданного знания. И эмбрион появляется в последнем символическом кадре – равновелики в бездонности космоса полукружье Земли и полукружье прозрачной оболочки человеческого плода, и торжественная музыка подчеркивает величие исторического момента: человек еще в колыбели своей планеты, но это только начало. Впереди – звездный путь.
А. Караганов точно отмечает, что «в своем фильме Стэнли Кубрик вполне расчетливо стремится к многозначности экранных иероглифов» (19).
Похоже, что режиссер даже нарочно поддразнивает своих зрителей и критиков возможностью разных интерпретаций финала. Но стоит, наверное, обратить внимание на давнюю привычку фантастического искусства прибегать к многозначности и таинственности как к излюбленному приему.
Вспомним, что именно переплетением реального и трансцендентного, «игрой вариантов» восхищался Достоевский в «Пиковой даме»: «Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал «Пиковую Даму» – верх искусства фантастического. И вы верите, что Герман действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, т.е. прочтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германа или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов… Вот это искусство!» (20).
Загадка и тайна вошли в фантастику сегодняшнего дня – от Стругацких до Булычева в советской фантастике и от Шекли до Воннегута в западной. Многозначность, недоопределенность входят в состав фантастического как отражение еще не раскрытых тайн природы и как эстетическое качество этого жанра. Они характерны и для финала фильма Кубрика. Очевидно, Кубрик прячется за эту возможность «игры вариантами», поскольку не берется дать социально определенный ответ о будущем человечества.
При этом интонация, настроение «Космической Одиссеи» вполне ясны.
Кубрик создал в этом фильме Одиссею технического прогресса. Сагу о стремлении человека к знанию. В фильме нет конфликта разных жизненных концепций, нет столкновений личностных, нет женщины. Только человек и техника (21). К исследованию нравственности человека, природы его личности Кубрик обратился в фильме «Заводной апельсин». А в изображении космоса его оппонентом, пусть и не намеренным, стал Андрей Тарковский в фильме «Солярис».
<…>
* * *
Роман Майкла Крайтона «Штамм «Андромеда», в отличие от многих научно-фантастических произведений, обращен не в будущее, а в недавнее прошлое. Он представляет собой как бы документальный «отчет о пятидневном кризисе, одном из самых значительных в американской науке». Это история того, как спутник специального назначения серии «Скуп» доставил на Землю внеземную форму жизни, бактерию, мгновенно убивающую людей. Занес не случайно, именно такова была его программа, поскольку, как выяснилось, за последние годы бактериологические лаборатории, разрабатывающие новое оружие, ничего интересного и принципиально нового создать не смогли. И хотя, казалось бы, все было готово и предусмотрено для встречи с неведомым: и подземная бактериологическая лаборатория с пятью герметически отделенными друг от друга уровнями, и мгновенно собранные по тревоге лучшие ученые страны, и пущена в ход вся военная машина, но оказалось, что штамм «Андромеда» проходит, как сквозь сито, сквозь все заготовленные преграды и разрушает все предварительные расчеты. Это и есть, по теории автора, главный мотив научного кризиса, когда приемлемая сумма обстоятельств становится совершенно неприемлемой в связи с введением нового фактора. В данном случае это было появление штамма «Андромеда». По существу, если отбросить научную терминологию, то история научного кризиса – это и есть видоизмененная история Франкенштейна или джина из бутылки.
Фильм Роберта Уайза снят под хронику, под реальную историю, как, впрочем, написан и сам роман. Все по дням и по часам, отрывистый стук телетайпа, уставные формы секретности, и смерть кажется еще более жуткой оттого, что показана как бы под грифом «совершенно секретно» на просмотровом экране военной базы: маленький поселок Пидмонт в штате Аризона, где на улицах валяются трупы людей в тех позах, в каких их застала мгновенная смерть, – человек, упавший головой на руль машины, женщина, застывшая на лестнице, тело, вывалившееся из-за полуоткрытой двери, – таков результат действия штамма «Андромеда», доставленного космическим спутником «Скуп».
И техника. Техника, которая властвует над всем в этой картине. Фильм – поэма электронных микроскопов, автоматических рук, компьютеров, мерцающих на стенах телевизионных экранов, осциллографов, светящихся цифрами и надписями табло… Люди – придаток этой автоматики, которая слепит им глаза, вкрадчиво и жестко напоминает об обязанностях, указывает на ошибки, заменяет руки и глаза. Кажется, не человек двигает автоматическими захватами, а сами механические руки оперируют человеком. Автоматические машины и защитные комбинезоны – это суть, а человек лишь наполнитель этой совершенной конструкции. Машина заставляет их жить в необходимом ритме, герметизирует, запирает, когда они становятся потенциальными носителями инфекции, старается убить лучом лазера, когда герой лезет по вентиляционному туннелю, чтобы предотвратить атомный «дезинфекционный» взрыв.
В романе был один важный сюжетный мотив, выражающий ироническое отношение к этой всесильной технике: компьютер баснословной сложности и стоимости не работал из-за ничтожной механической неисправности, – в фильме этому мотиву уделено более скромное место. Власть машины универсальна, автоматически выезжают за докторами военные по команде «Лесной пожар» – кодовому обозначению опасной эпидемии, – автоматически вносится в камеру, где находится внеземная форма жизни, воющая от страха обезьяна, и так же автоматически удаляется ее бездыханное тело. Безукоризненно отделяется песчинка с растущей, мерцающей зеленым светом новой формой жизни от оболочки спутника. И все-таки не всесильная техника предотвращает кризис, а, наоборот, ее несовершенство, которое позволило человеку проявить свой разум и решимость. Роман и фильм весьма скептически относятся к мифу о всесилии науки, к мнениям о всеведении ученых, и даже утвердившаяся было в фантастике 50-годов мысль о том, что во всем виноваты лишь генералы, а ученые – апостолы чистой науки, подвергается критическому переосмыслению. Тем более важному, что автор романа Майкл Крайтон и сам ученый-биолог.
Главный герой романа ученый Джереми Стоун, лауреат Нобелевской премии, человек, чье имя порой упоминается в ряду с Эйнштейном и Бором, – по существу, игрушка в руках государства и бизнеса. И он сам понимает это. Отсюда его пессимизм, его разочарование в роли ученых и в возможностях разума. «В часы мрачных раздумий Стоун вообще уже сомневался в плодотворности всякой мысли и разума как такового… Стоун часто повторял, что от разума беды куда больше, чем пользы. Разум больше разрушает, чем созидает, способен скорее запутать, чем прояснить любую проблему, порождает больше безнадежности, чем удовлетворения, творит больше зла, чем добра»62. И кажется, здесь герой романа Крайтона, если не сам автор, оказывается на той же позиции, что авторы «Кабинета доктора Калигари» и фильмов про сумасшедших ученых. Идея проходит полный цикл, возвращаясь на новом уровне как будто бы к схожей позиции. И это отнюдь не еретическая, ренегатская позиция Крайтона.
Книга и фильм «Штамм «Андромеда» неожиданно вмешались в ожесточенную войну, которая идет на Западе между представителями «двух культур» (естественных наук и гуманитарных – Чарльз Сноу), между сциентистами и антисциентистами (правда, и в том и в другом лагере есть перебежчики из вражеского стана). Журнал «Иностранная литература» опубликовал большие выдержки из статьи Мартина Малочи «Ученый в роли шамана». Ее автор замечает, что сциентисты взяли на себя роль шаманов и оракулов, и их рекомендации характеризуются той же догматической безапелляционностью, претензией на всеведение и прагматизмом. Тем не менее их обещаниям верят: «Ведь в конце концов репутация у науки хорошая, а все самые горластые сциентисты принадлежат к числу крупнейших ученых и даже нобелевских лауреатов впридачу. Потому-то сциентизм и пробудил детскую надежду, веру и эйфорию среди интеллигенции, которой очень хочется в наше время, когда все вехи, как пьяные, шатаются под ударами сильных, непредвиденных ветров, услышать бодрящий голос, уверенно рассказывающий о великих идеях и целях. Воистину, сегодня сциентизм – самый пьянящий напиток в кабачке интеллигенции!..»63 Среди сциентистов такие ученые, как изобретатель голографии Деннис Габор, генетик Жак Моно, психолог Берхаз Ф. Скиннер, известный этолог Конрад Лоренц, палеонтологи и антропологи Лайонел Тайгер, Робин Фокс, Десмонд Морис. Методы точных наук они пытаются применить для решения социальных проблем. Как справедливо замечает автор комментария к статье Малочи, «психическое отождествляют при этом с физиологическим, социальное – с биологическим, сущностное – с формальным, качество надеются выразить через количество. Безнадежность и вредность подобных попыток в свое время были убедительно раскрыты марксистской наукой»64.
Претензии сциентистов вызвали яростный отпор со стороны ряда социологов, философов, представителей гуманитарной интеллигенции вообще. Они сочувственно вспоминают слова Освальда Шпенглера «Машина – дело рук дьявола» и доказывают, что технократический рай, описываемый сциентистами, – это, в сущности, свинарник, где покорное большинство, блаженно хрюкая, отъедается в безделье и бездуховности, получая пищу и развлечения из рук высоколобой технической элиты. Или, в более жестоком варианте, – упряжка мулов, покорно влачащих свою ношу под угрозой электронного хлыста-компьютера.
Характерно, что в этом категорическом неприятии сциентистских программ сходятся такие разные по своим позициям деятели, как крупнейший буржуазный историк Арнольд Тойнби и философ Жак Эллюль, писатель-фантаст Курт Воннегут-младший и выдающийся физик Макс Борн, вспомнивший в своей книге о «трагической истории морального падения», когда в ходе второй мировой войны крупные ученые принимали или советовали принять решения, ведущие к неисчислимым жертвам среди мирного населения. Такие, как решение Линдемана о бомбардировке рабочих кварталов немецких городов, или поддержанное группой выдающихся физиков решение Трумэна – Гровса бомбардировать Хиросиму.
Как показывают роман и фильм, Майкл Крайтон также не верит в перспективы технократического рая, в царство «умной машины», или царство ученых.
Штамм «Андромеда» в решающем эпизоде фильма проникает через все защитные фильтры, и автоматическая программа выдает единственное решение – атомный взрыв. Решение, которое в данном случае будет губительным, поскольку радиоактивность и высокая температура и есть главное «питание» для космической бактерии. Ученые же сидят взаперти в своей подземной лаборатории, на самом нижнем пятом уровне. Они могут только пассивно слушать информацию о решении электронной машины, которую им сообщает записанный на пленку женский голос.
«Голос невозмутимо повторял:
– До ядерного взрыва осталось три минуты.
– Автоматика, – сказал Стоун с тихим бешенством. – Уровень поражен, и система сработала. Надо что-то делать».
И тогда хирург Марк Холл ползет через центральный вентиляционный ствол шахты наверх к уровню, где он может отключить атомное устройство. На экране телевизора глазами изолированных и обреченных ученых мы видим ползущего по стволу шахты Холла, луч лазера, пытающийся его остановить, и автоматические стрелы с парализующим ядом, вонзающиеся в его тело. Ключевая, быть может, фраза романа, реализованная лишь в поведении героя, звучит так: «И Холл разозлился. Оттого что этот соблазнительный женский голос был заранее записан на пленку. Оттого что кто-то задумал всю эту серию неотвратимых грозных предупреждений. Оттого что этот сценарий разыгрывается сейчас, как по нотам, электронной машиной вкупе со всей блестящей, безупречной лабораторной аппаратурой. Будто такова была его неминуемая участь, заранее запланированная и предначертанная. И он разозлился». Благодаря неслаженности технических приспособлений Холлу удается выбраться наверх и выключить устройство за 40 секунд до атомного взрыва. Кризис предотвращен. Но надолго ли?
Позиция авторов фильма и героев, по видимости близкая кинофантастике 30-х годов, на самом деле реализуется в совершенно новых условиях. Когда не машина поднимает восстание против человека, а человек восстает против машины.
Впрочем, быть может, Марк Холл напрасно злится, и ему надо примириться с неизбежным и утешаться надеждой на то, что ее величество Машина будет бережно относиться к человеку, как сам он порой относится к редким экзотическим животным, сохраняя их в заповедниках. Ведь таковы перспективы, которые рисуют нам уже не фантастика, а авторитетные ученые.
Так, несколько излюбленных фантастикой мотивов и характеров к началу 70-х годов подошли к определенному итогу.
Робот, восстающий против своего хозяина-человека (Голем, чудовище Франкенштейна, ЭАЛ), сам оказывается хозяином, искусственной средой существования, «мягко и вкрадчиво» навязывающей человеку зависимость от техники, отбирающей свободу, программирующей жизнь героя и его поступки.
Злодей ученый, безответственный глупец и опасный маньяк, работающий в своей келье, напоминающей лабораторию алхимика (Виктор Франкенштейн и Преториус, доктор Циклоп и Калигари), сначала уступает место молодому дельному ученому-консультанту, дающему дальновидные советы тупицам военным (фильмы 50-х гг. о проснувшихся чудовищах и о вторжении из космоса) и на свой страх и риск начинающему борьбу против грозящей человечеству опасности. Затем он в свою очередь сменяется ученым-администратором (Флойд в «Космической Одиссее»), вылощенным энергичным руководителем, соединяющим, или примиряющим в себе интересы государства и науки. А в фильме «Штамм «Андромеда» уже группа ученых, в свою очередь представляющих некий рожденный государственно-бюрократическим аппаратом научный Проект, действующий, живущий уже помимо его авторов и даже подчиняющий себе своих создателей.
Что ж, фантастика еще раз показала свою связь с реальной действительностью. Времена Калигари и Франкенштейна прошли. «Безликий гигантизм – ныне определяющая черта науки», – утверждает известный социолог-технофоб Теодор Роззак. Наука на Западе все более сливается с военно-промышленным комплексом. И высокомерные претензии сциентистов на руководство политикой и государством: «наука у власти» – оборачиваются на практике зависимой ролью экспертов при «большой политике» и «большом бизнесе».
Об этом тревожном процессе в ходе НТР на Западе говорит кинематограф эволюцией образа ученого.
И кто знает, может быть, скоро появится фантастический фильм, где ученый сам будет превращаться в робота, вместо того, чтобы его создавать. Становиться роботом в том смысле, который влагал в это понятие Шоу, то есть существом программируемым, обладающим лишь видимостью самостоятельности и свободы.
Какова же дальнейшая судьба второго героя этой главы, потомка Голема и Франкенштейна, набитого электроникой и закованного в стальную броню, – какая судьба ожидает робота?
Она зеркально отражает судьбу человека. Если человек в ряде фильмов западного кино действует согласно заложенной в него программе, становится придатком обслуживаемой им техники, деперсонализируется, то робот, наоборот, «очеловечивается» в том смысле, что заражается всеми человеческими слабостями и пороками. Процесс, как мы помним, угаданный еще Чапеком. Сегодня «очеловечивание» робота показал на экране Майкл Крайтон (22) в фильме «Мир дальнего Запада».
Действие этой картины разворачивается в гигантском парке развлечений будущего. За тысячу долларов в день гость может провести день в Риме эпохи упадка с его утонченной роскошью и дикими оргиями, в средневековье, окунувшись в атмосферу мистической экзальтации и свирепых рыцарских забав, или, наконец, пережить встряску на Диком Западе – пограничный городок, салуны, схватки с индейцами и перестрелка с черным убийцей. Но фирма дает клиентам гарантию в том, что они вполне безопасно могут удовлетворить свой инстинкт убийства и всадить в робота заряд своего револьвера без риска получить пулю в ответ, поскольку и черный бандит и остальные жители городка всего лишь роботы. Каждый вечер их ремонтируют, а на следующий день они снова подставляют свои пластиковые тела под выстрелы упоенных возможностью безнаказанного убийства гостей.
Но мало-помалу что-то начинает меняться в электронном мозгу роботов. Импульсы ненависти, садизма, идущие от гостей, впечатываются в их программу. Черный бандит – его играет Юл Бриннер очень похожим на своего героя в «Великолепной семерке» – уже не хочет быть только мишенью. Он хочет делать то же, что и его враги – убивать. И чем больше он проникается наслаждением убийства, тем ближе робот оказывается к гостям парка, тем больше он становится «человеком» – не в том смысле, в каком очеловечивалась Хари в «Солярисе», – через страдание, понимание и любовь, а через ненависть и наслаждение убивать.
Центральная сцена фильма – погоня робота за одним из гостей. Преследуемый и преследователь проносятся через все зоны парка, как символ жажды убийства, идущей через все времена от античного Рима до наших дней, и заключительная схватка разыгрывается в центре управления роботами, где герой, пользуясь то кислотой, то огнем, пытается убить своего противника. Герой спасается, хотя сотни гостей гибнут. Но вне зависимости от этого финала проблема человек и робот получает у Крайтона пессимистическое разрешение: робот унаследует у человека все его худшие качества. А поскольку во все времена (их услужливо восстановил парк развлечений) человек стремился к плотским удовольствиям, был обуян жаждой насилия и убийства, то чего же иного, спрашивается, ждать от робота?
Фантастику Майкла Крайтона отличает одна особенность: действие его фильмов никогда не происходит в далеком будущем и не связано со слишком смелыми, невероятными фантастическими предположениями.
Сюжет «Штамма «Андромеда» разворачивается даже в прошлом и представляет собой отчет о пятидневном научном кризисе. Все совершенно реально, нет ничего или почти ничего, что не могло бы произойти в действительности, – занесение из космоса опасных бактерий («Штамм «Андромеда»), неудачная операция на мозге, в результате которой человек становится патологическим убийцей («Конечный человек»), И хотя бунт роботов («Западный мир») явно фантастическое допущение, оно настолько «обжито» современной фантастикой, что и читателями и зрителями воспринимается как нечто вероятное.
Крайтон делает, таким образом, еще один шаг к слиянию фантастики и реальности, используя самые вероятные допущения, чтобы обнажить явления и тенденции, уже существующие в реальной жизни. В этом отношении он представляет одно из наиболее авторитетных направлений в современной фантастике.
(11) Чапек К. Соч., т. 3, с. 438
(12) Там же, с. 438
(13) Там же, с. 169
(14) Парнов Е. Уроки Чапека или этапы робоэволюции. – В кн.: Шутник. М., «Мир», 1971, с. 70
(15) Винер Н. Творец и робот, с. 70
(16) Караганов А. Киноискусство в борьбе идей. М. Политиздат, 1974, с. 74
(17) Там же, с. 76
(18) Достоевский Ф.М. Об искусстве. М. «Искусство», 1973, с. 444
(19) Лем С. Солярис. Эдем. М. «Мир», 1971, с. 21
(20) Там же
(21) Как курьез можно привести еще одну – фрейдистскую трактовку фильма в статье Маргарит Тарра «Чудовище из Id». «Такие фильмы («Космическая Одиссея», «Направление – Луна», «Затерянные в космосе») с их под черкиванием мужского и концентрацией на механике космических полетов предлагают образ мужчины, восхищенного своими половыми органами». По мнению критика, их центральная проблема – примирение в мужчинах соци ального и сексуального существа («Monsters from Id» – Films and Filming», 1971, № 1, pp . 40-42). (Прим. автора)
(22) В прессе Майкла Крайтона называют человеком Возрождения, имея в виду широту его интересов и занятий. Окончив медицинский факультет Гарварда в 1965 г., он успел уже написать пятнадцать книг, в том числе став ший бестселлером «Штамм «Андромеда», а потом и сам стал режиссером собственных сценариев – им поставлен фильм «Мир дальнего Запада». (Прим. автора)
<< К началу 
|
|


 Главная
Главная Поэтика
Поэтика Обзоры и рецензии
Обзоры и рецензии Словарь
Словарь Фильмография
Фильмография Библиография
Библиография Интернетография
Интернетография Нужные ссылки
Нужные ссылки Мои работы
Мои работы Об авторе
Об авторе