| начальная | personalia | портфель | архив | ресурсы | о журнале |
Казимир Твардовский
Вступительная лекция во Львовском университете
(15 ноября 1895 г.)
Лекции философии в здешнем университете я начинаю с логики, следовательно с одной из наиболее специализированных ветвей философии. Тем более я чувствую себя обязанным во вступлении коснуться в нескольких словах тех вопросов, которые каждому приходят в голову, когда он имеет дело с незнакомым ему до сих пор представителем специальности, порученной мне. Ведь логика среди прочего тем главным от остальных философских наук отличается, что раньше их всех оказалась научно обоснованной и развитой и, несмотря на это, до сегодняшнего дня наименее изменилась. Нужно было бы углубиться в весьма специальные логические вопросы, чтобы по способу их трактования узнать, к какому из господствующих в науке направлений тот или иной ученый может быть отнесен. И если бы мы даже узнали, что некто понимает логику сугубо по аристотелевски, а [кто-то] другой разделяет взгляды Стюарта Милля, несмотря на это мы не были бы в состоянии судить как сторонник первого или второго направления в логике смотрит на определенные проблемы, разделяющие философов на многочисленные, ведущие между собой ожесточенные бои лагеря. Ведь это разделение проистекает не из логики; оно не зависит от того, считает ли кто-то силлогизм первостатейным способом рассуждения, или же — как утверждает Прантль — средством, служащим для дрессировки тупых голов; это разделение помещается главным [образом] в той ветви философии, которую называют метафизикой и которой обычно поручается построение философских систем.
Идеализм или реализм, спиритуализм или материализм, догматизм или скептицизм, монисты и дуалисты и т.д., вот лозунги, под которыми философы приучились восхвалять собственные и порицать чужые интеллектуальные достижения. Кроме этого они обычно выбирают для себя еще какое-нибудь название, составленное из фамилии философа, вслед за которым они идут и учение которого считают истинным. Идеалисты делятся на платонистов, берклеистов и т.д.; и так в каждом из названных направлений. Поэтому когда имеют дело с неизвестным до сих пор представителем философии уже сам обычай подсказывает спрашивать, в какую из указанных нам историей философии рубрик его следует поместить? А из личного опыта могу заверить, что сколько бы я до сих пор кому-либо не говорил, что посвятил себя философским исследованиям, меня всегда спрашивали, не являюсь ли я приверженцем Гербарта или Фомы из Аквина, Спинозы или Платона, Вундта или Канта. Итак, какой же ответ я давал на такие вопросы? — Я взял для себя образцом Сократа и на вопрос отвечал вопросом; а я спрашивал, как бы выглядел аналогичный вопрос, обращенный к представителю какой-нибудь из естественных наук? Можно ли вообще подобным образом спрашивать зоолога или физика и что подобный вопрос, поставленный перед естествоиспытателем, значил бы? И тогда мне говорили: Ах, естественные науки, это нечто совершенно иное; там нельзя говорить о столь основательно отличающихся направлениях, о сражающихся одна с другой системах; но в философии каждый должен быть неким “-истом” или “-иком” — aut est talio, aut non est.
Мне кажется, что те, кто таким образом старался обосновать поставленный мне вопрос, обнаруживали отсутствие знакомства с существенными свойствами как естественных наук, так и философских ветвей знания, поскольку они исходили из того допущения, что естественные науки от философских наук разделяет пропасть, что между одними и другими такое различие, какого нет ни между какими иными областями человеческого знания. Правда ли это? Является ли это всеми разделяемое мнение обоснованным? Чем большей популярностью пользуется какое-то мнение, чем более оно распространенно, тем менее ему следует загодя доверять, тем критичнее следует исследовать его полномочия. И поэтому остановимся хотя бы поверхностно, насколько нам позволит время, на этом вопросе и постараемся дать себе отчет в отношении, которое возникает между естественными науками и философией.
На это отношение можно посмотреть по-разному. Я не буду задерживаться над, впрочем весьма интересным, отношением, которое возникает между историческим развитием естественных наук с одной, и философией с другой стороны; вместо этого я хочу обратить внимание на отношение между предметами, которыми занимаются естественные науки и философские, и между методами, какими они пользуются в своих исследованиях.
Само название естественных наук указывает нам их предмет. Вещи и явления природы образуют предметную основу естественных наук. Все, что является телом или качеством тел, принадлежит их области. Все, что воздействует на наши чувства, но и органы чувств совместно с организмом, в котором они размещены — вот громадное пространство естественных наук. В отличие от них философские науки занимаются рациональными, духовными явлениями; но этого вида определение предмета философских наук не может быть применено ко всем им без исключения. Оно удачно до тех пор, пока имеется в виду психология, логика, этика, эстетика; однако оно не применимо, когда речь идет о метафизике, ибо метафизика не исследует как таковые ни чувственные явления, ни рациональные; тогда, казалось бы, она вообще не имеет прав на существование; и позитивисты действительно отказывают ей во всякой значимости. Но они ошибаются, поскольку наряду с чувственными и рациональными вещами есть еще и иные, которые не удается отнести ни к одной, ни к другой категории и которые находятся в тесной связи как с одной, так и с другой. Например, отношения различного вида. Является ли подобие двух предметов явлением чувственным или же рациональным? Очевидно, ни одним, ни другим, а ведь это отношение может возникнуть как между чувственными явлениями, так и между рациональными. Подобными являются два стола, два движения, но подобны также два чувства, два чувственных впечатления. Или же отношение причины к следствию. Причиной может быть нечто чувствительное (сдавливание), и следствием также (падение предмета), но и два рациональных явления могут соотносится как причина и следствие (воображение и впечатление); это же отношение может возникать даже между явлением рациональным и чувственным: (принятое) решение и движение члена; но и само отношение причинности ведь не является ни чувственным, ни рациональным. Следовательно, вся теория отношений принадлежит к области метафизики. Однако это не конец. Существует целый ряд вопросов, предметом которых не является ни нечто чувственное, ни нечто рациональное, но которые равным образом относятся как к вещам чувственным, так и рациональным. Вопрос, откуда появился весь мир — душа и тело — принадлежит к этому же ряду вопросов; далее, исследование связи, в которой находится рациональный мир с чувственным; а когда мы спрашиваем про цель Вселенной, [то] научный ответ следует искать в метафизике. Таким образом, нет недостатка в предметах, которыми могла бы заниматься метафизика; нет для нее недостатка в рабочем материале, но лишь собственное узкое мировоззрение позитивистов не позволяет им правильно оценить важность этих проблем.
Из того, что я здесь сказал о предмете метафизики, следует, что философию нельзя непосредственно противопоставлять естественным наукам, поскольку к философии относится метафизика; почему, этого в виду недостатка времени я не могу показать; я удовлетворюсь констатацией никем не отрицаемого факта. А метафизика, являющаяся ветвью философии, занимается предметами, остающимися в тесном контакте как с предметами естественных наук, так и с предметами остальных философских наук и образует между двумя этими сферами человеческого знания тесную связь, покоящуюся на общности определенных проблем. Это отношение можно было бы символически представить так:
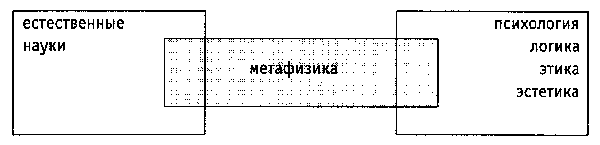
Между естественными и философскими науками существуют еще и иные связи. Некоторые вопросы, которыми занимается человеческий разум, относятся к явлениям, причины которых имеют природу как естественную, так и духовную. Вопрос возникновения языка людей, вызывание ощущений движением эфира, воздуха, создание форм общественной жизни — вот вопросы этого сорта. Лингвистика, социология, психофизика хотя и являются отдельными науками, все же соединяют в себе естественные и философские науки, ища свои основания здесь и там.
Обозначивши таким образом имеющее место между естественными и философскими науками отношение на основании предметов и проблем, которыми они занимаются, обратимся к методу. В немецкой философии установилось выражение “die naturwissenschaftliche Methode”; говорится о методе естественных наук как об одном единственном способе исследования в области природы; а под этим методом понимается индуктивный метод. Такое понимание дел не во всем является точным, поскольку существует ветвь естественных наук, которая стала уже насквозь дедуктивной, а является ней механика. И механика сразу была наукой индуктивной; но [она] сумела все далее идущими обобщениями прийти к формулированию нескольких основных законов, из которых уже чисто дедуктивным путем вывела законы отдельных явлений движения. Таким образом, сегодня механика уже не пользуется индуктивным методом. Существуют и прочие естественные науки, в которых нет и следа индукции. Таковыми являются все сугубо описательные науки, как, например, зоология. И лишь там, где речь идет о возникновении некоторых качеств, где мы начинаем спрашивать о причине некоторых явлений, лишь там появляется индукция как единственно верное средство добывания истины. Итак, в естественных науках мы обнаруживаем не только один индуктивный метод. Имеет там место, наряду с классификацией, дедукция. Это же можно сказать и о философских науках. Одна из них в первую очередь является чисто описательной: психология; и лишь тогда, когда мы спрашиваем о появлении рациональных явлений, о факторах, влияющих на развитие всей деятельности разума, лишь тогда мы пользуемся в психологии индукцией. Опять же логика, подобно механике из естественных наук, является дедуктивной наукой, этика и эстетика также должны быть дедуктивными науками, только во взглядах на них еще нет согласия относительно тех основных законов, из которых удалось бы путем дедукции вывести отдельные нормы этического и эстетического оценивания. И о том идет спор, нужно ли искать эти общие законы этики и эстетики путем индукции, или же они непосредственно очевидны. Первый случай соответствовал бы механике, второй — логике.
Как же в конечном счете дела обстоят с метафизикой? Прежде чем мы приступим к вопросу, следует ли к ней применять дедукцию или индукцию, нужно сказать, что и в метафизике имеются разделы сугубо описательные. К ним относится уже упоминаемая теория отношений, поскольку здесь ни о чем другом речь не идет, как об описании и сортировании отдельных отношений, как и об обозначивании условий, которые должны быть выполнены с тем, чтобы то или иное, или же несколько отношений могли возникнуть между предметами. В этой части метафизики должен быть разработан, например, вопрос, поставленный некоторыми учениками Декарта, могут ли дух и материя, являющиеся столь разнородными субстанциями, взаимно влиять. В возможности такого влияния мы убеждаемся путем дедуктивного анализа, разбирая понятия взаимного воздействия и наблюдая, что в этом понятии нет ничего, чтобы запрещало его применять к каким угодно, хотя бы к самым разнообразнейшим предметам. Однако если речь уже не идет ни о какой возможности взаимного воздействия духа на материю, но о вопросе — на который Фехнер, Вундт, Паульсен и прочие отвечают отрицательно — действительно ли это воздействие имеет место, тогда не возможно обойтись без индукции. Точно также индукция необходима тогда, когда мы задумываемся над конечной целью Вселенной и живущих в ней личностей. Собирая опыт, касающийся отдельных существ и относительно кратких эпох, мы путем все более далеко идущих обобщений приходим к результатам, относящимся к будущности, неприступной опыту. Поэтому в метафизике индукция играет далеко не последнюю роль. Но она возможна не во всех вопросах. Вопрос, существует ли мир вечно или же имел начало во времени, разрешил Аристотель при помощи чрезвычайно тонкой, но совершенно строгой дедукции; а таких вопросов, доступных только дедукции, в метафизике большое число. Вся трудность здесь состоит в обнаружении тех общих принципов, на которые дедукция могла бы опереться, так как в том именно заключена знаменательная черта дедукции, что она исходит из общих суждений, тогда как индукция наоборот, опирается на частные суждения. Итак, что до этих общих принципов, служащих в дедуктивном рассуждении исходным пунктом, то их коснулось преображение, в котором пребывает метафизика в этом столетии. С весьма немногочисленными исключениями повсеместно считалось, что к этим общим принципам нельзя прийти при помощи индукции, что эти принципы должны быть априорными, что нельзя их добывать из опыта, что они должны быть выше опыта, но почерпнуты из источника понятий, дремлющих на дне человеческой души. Таким образом, каждый эти понятия извлекал наружу, составлял из них предложения и принципы, а из этих [последних] смело дедуцировал законы всеобщего бытия. А поскольку нет двух одинаковых душ, постольку каждый почти из иного исходил предположения и к иным приходил выводам. Отсюда возникло это множество взаимно сражающихся систем, а вечный спор философов, почти полное отсутствие согласия породили у большинства недоверие, а потом пренебрежение и недооценку. Философия возводила одну априорную систему за другой, философы силились [изобрести] все новые идеи, тогда как естественные науки тихим, систематическим трудом, основанным на фактах, а не на облаках продвигались тихо, но уверенным шагом все далее и выше. Коперник, Галилей, Ньютон, Дарвин, Роберт Майер, Кирхгофф, Гельмгольц, Фехнер, Максвелл и Герц указали путь, которым можно, основываясь на фактах, достичь при помощи индукции общих принципов, которые служили бы основанием для далеко ведущей дедукции и такой дедукции, которую удавалось бы проверить на опыте. Наконец преобразилась и мерка в философии. Когда рухнули строения послекантовской спекуляции, когда возникла страшная духовная бездна, которую поверхностные умы старались заполнить евангелием материализма, философия очнулась. Восстали Гербарт и Тренделенбург, Лотце и Брентано и воззвали к исправлению оплакиваемого состояния дел. Они на деле отбросили постановку априорных, а в действительности произвольных утверждений; они указывали исключительно на анализ фактов и явлений, брали за образец метод, каким естественные науки приходили к таким изумительным результатам — и с тех пор в философии, а особенно в метафизике, началась новая эпоха.
Настоящее состояние метафизики можно было бы сравнить с положением, в каком находилась механика перед Галилеем. Собрано много опытного материала, стремились охватить все богатство частичного знания какой-то системой, но лишь Галилей начал построение этой системы. И не сразу она возникла. Нужно было ни одно открытие сделать, нужно было уже известные факты подробнее исследовать, прежде чем механика смогла приобрести ту законченную форму, которую мы сегодня в ней видим.
И в метафизике много уже сделано, немало собрано кирпичиков для построения системы, и уже были многочисленные попытки построения системы. Но преждевременно брались за эту работу, не заметили, что многих кирпичиков еще не хватает, что камень, положенный во главу угла, не достаточно старательно обтёсан и уложен — а значит и стены, когда становились уже под крышу, в многочисленных местах зияли дырами и распадались в руины. Но отдельные кирпичики остались; они не рассыпались в прах, за исключением тех, что ни к чему не годились. Следовательно, труд предыдущих поколений не был напрасен; хотя и не достиг результатов, к которым стремился, он не был бесплоден, ибо показал, какой кирпичик имеет непреходящую ценность, а какой следует отбросить; он вызвал определенный естественный отбор среди разнообразнейших утверждений и точек зрения и тем самым облегчил работу будущим поколениям и указал, что и в этой области человеческих знаний возможен прогресс.
Таким образом, время построения философской системы еще не пришло. Я говорю системы, а не систем, поскольку есть только одна настоящая система философии. Но мы ее не знаем, а может никогда и не узнаем. Механика сумела прийти к совершенной системе, поскольку ее предмет был четко очерчен, находился в определенных границах, а сами исследования относятся к явлениям относительно простым и незапутанным. Но метафизика должна охватить всю Вселенную, ее прошлое и будущее и все, что в ней есть бесконечно малым и бесконечно большим! Придет ли она когда-нибудь к обладанию всеми этими отдельными знаниями, из которых можно было бы построить здание знаний уже без дыр, без недостатков, здание, которому загодя не грозил бы обвал. Не знаю, что будет; однако знаю, что сегодня нам до этого еще очень далеко, хотя и не совсем так далеко, как индийским или ионийским философам. Не будем испытывать будущее, не будем растекаться домыслами, но давайте делать то, что надлежит нам [делать]. Итак, коль скоро мы признали, что еще не в состоянии построить систему философии, то давайте собирать знания, которые для этого пригодились бы в будущем. Проблем хватает, а поэтому займемся ними одна за другой; один то, другой это; и таким образом приумножим для человечества все более многочисленные точки опоры, все более богатейший материал, способный служить ориентации во Вселенной.
Поэтому высказываясь за то, чтобы не браться за построение философской системы, я знаю, что меня легко можно осудить за то, что я отнимаю у метафизики ее существеннейшее свойство. Обычно от метафизики требуют, чтобы она представляла как целое результаты отдельных исследований, проделанных специализированными дисциплинами. А это не произойдет, если не будет системы философии. Многие так подумают. Относительного такого возможного обвинения следует помнить, что каждый метафизический вопрос, как это следует из приведенного здесь определения предмета метафизики, относится к синтезу результатов отдельных наук; если мы знаем, что мир должен иметь начало, а не существует вечно, то это убеждение относится равно как к предметам, исследуемым естественными науками, так и к предметам, которыми занимается психология. А если мы знаем, что взаимное воздействие двух предметов не предрешает ничего о их качестве, тогда мы имеем закон, который одинаково приложим как к материальным предметам, так и духовным, и к обоим вместе. Следовательно все, что бы мы не делали в метафизике, является частичным синтезом; а что мы не обладаем полным синтезом, охватывающим все без исключения — это бесспорная истина, факт, неустранимый никакими спекуляциями. Но лучше таким синтезом не обладать, чем иметь ошибочный; на настоящий научный синтез — как я уже сказал — нас еще не хватает.
А сейчас вернемся к вопросу, с которого мы начали. Я старался показать, что между философскими и естественными науками в общем-то нет такого поразительного противоречия; наоборот, одна ветвь философии, а именно — метафизика занимается проблемами, равно интересующими как прочие философские дисциплины, так и естественные науки; я старался также показать, что методы, которыми пользуются философские науки во главе с метафизикой, являются никакими иными, как теми, которые бывают применимы к исследованию природы. Из этого следует, что рубрикация философов и приклеивание им этикеток при сегодняшнем состоянии культивируемого ими искусства не является обоснованным. Это верно, что и сегодня среди философов существует различие мнений. Но существует оно также и среди естественников. Сколько же есть теорий, старающихся выяснить явление землетрясения? Сколькими различными способами стараются естествоиспытатели объяснить появление животных и растительных видов! Против Дарвина восстает Вейсманн, против им обоим Гаманн. И даже в механике нет недостатка в значительных различиях мнений, когда речь идет о методах дедукции ее дисциплин. Кирхгофф старался изгнать понятие силы; Мах пошел его путем; но возникла также и сильная оппозиция. Таким образом, и в естественных науках нет недостатка в различных мнениях, разнообразных противоречащих [друг другу] направлений. Но это различие мнений, это разнообразие направлений всегда относится к одному спорному вопросу, как раз и стоящему на повестке дня. Поэтому может случится так, и случается весьма часто, что два естественника полностью соглашаются во всех вопросах, за исключением именно одного; что оба являются, например, сторонниками эволюции, но в вопросе наследования приобретенных признаков один отстаивает взгляды Чарльза Дарвина, а другой утверждения Августа Вейсманна. Поэтому если один о другом скажет, что он дарвинист, то тогда он хочет просто сказать, что в этом вопросе у него такое же мнение, как и у Дарвина, но по крайней мере он не старается порицать остальные его знания. Но именно это и происходит в философии. Если бы я кому-нибудь сказал, что являюсь, например, спинозистом, то подписал бы себе и всей своей философской работе приговор осуждения в глазах тех, кто не является спинозистом. А если бы молвил, что являюсь приверженцем томистической философии, то встретился бы с милостивой усмешкой почти всех философов из северной Германии, и еще многих прочих. Такое состояние дел решительно является нездоровым, и хотя в политике mutatis mutandis может иметь место, то с другой стороны, оно оскорбляет науку и тех, кто ей предан.
Все науки добывают истину там, где ее находят; каждый исследователь природы, или же истории, или математики из утверждений своих предшественников принимает те, которые обоснованы, и отбрасывает те, ложность которых он в состоянии показать предметными аргументами. И только в философии должно было бы быть иначе? Только в философии каждый должен был бы начинать ab ovo, и порицать без надлежащего исследования все, что кто-то перед ним утверждал потому, что этот некто был каким-то там “-истом”? Нет, так быть не должно и мы имеем непустую надежду, что времена такого поведения если еще не совершенно прошли, то уже проходят. Не о той или иной системе должны мы беспокоится, не о принадлежности к тому или иному направлению, той или иной философской школе, но о научной истине и тщательном ее обосновании; а если кто-нибудь воспротивится и скажет, что это эклектизм, тогда ему можно спокойно на это ответить, что здесь речь не идет о названии, но о сути, и поступая указанным образом, мы не делаем ничего, что бы не делали все науки. А разве кто-нибудь назовет сегодняшнего физика эклектиком потому, что он излагает одну вещь по Ньютону, другую по Кеплеру, третью согласно Гальвани, четвертую по Фарадею, пятую по Бунзену и т.д.? Определенно нет. Вот и нас тогда нет права так называть.
Ведь философия также наука, также искусство, как и каждое прочее; ее цель — поиск истины [prawdy], а истина в каждом предмете только одна; ни один человек не обладал всеми истинами, но кто бы откуда бы нам ее не указал, мы охотно и с благодарностью от того ее примем. Кроме поисков истины наука не имеет никаких амбиций; а ища истину, никто не захочет всю истину отыскать сам или приписать ее открытие личным заслугам. Когда все, кто культивирует философию, глубоко проникнутся ее научной миссией, тогда уже не будут разделяться по направлениям и направлениячкам, на сторонников различных систем и системок, но устремляя общие средства к общей цели будут согласованно шагать путем добросовестного и только предметным аргументам доступного исследования к истине — не возносясь одни над другими, но памятуя сказанное, что “кого истина покорила, того и мир гордыней не одолеет”. ([Фома Кемпийский], De imitatione Сhristi, L, III, XIV, 4).
Перевод с польского Бориса Домбровского
Рукопись Вступительной речи во Львовском университете находится в университетской библиотеке. Обнаружена автором перевода. Впервые опубликована в журнале Principia. T.VIII-IX (1994). Krakуw. — S. 225–236.
| начальная | personalia | портфель | архив | ресурсы | о журнале |