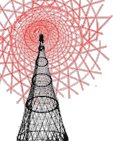 |
Говорит |
К. РюхельЕжик на деревянных колесиках
По страницам книг В. Лебедева и С. Маршака
Писатель сочиняет книгу. Художник ее иллюстрирует. Кажется, они должны быть заодно. А между тем каждый рассказывает свою историю. 
Дама сдавала в багаж Диван, Чемодан, Саквояж, Картину, Корзину, Картонку И маленькую собачонку. (1)
Даме выдали на семь мест багажа четыре зеленых квитанции. Странное соответствие. Тем более странное, что даже рифмой, каковую легко бы подправить, далее подчеркивается единственность
Позвольте, мамаша! На станции, Согласно багажной квитанции...
Концы с концами сходятся плохо. История держится на монотонном повторении, перечислении, и полузамеченной остается суть конфликта. Щенок (а это именно щенок, опредмеченная поговорка о маленькой собачке) удрал из багажного вагона, едва раздался звонок. На станции Дно его бросились искать: «Товарищи! Где собачонка?» Поймали первого попавшегося под руку пса, громадного, всклокоченного, сунули в багажный вагон. Конфликт не в логике происшествия. Она-то строга: до Житомира – путь по тем временам не близкий, а щенки растут не по дням, а по часам. Собака и вправду могла бы вырасти. Разница в размерах – больше, меньше – относительна. Чего тут смешного? Смешное в сопоставлениях именований и жизненных позиций. Дама с собачкой, мамаша, капризная и балованная, и простые работяги, товарищи, как подчеркнуто автором. Конфликт и в сопоставлениях слов, и в самих словах.
Собака-то как зарычит, А барыня как закричит: – Разбойники! Воры! Уроды! (2)
Работа выполнена отвратительно, зато барыня гневалась уж очень забавно. И умело нашлись работяги (кстати, покрывая не собственные упущения, а таких же работяг с другой станции. Собака ведь дала деру там, а не здесь).
Если Маршак разрабатывает свою излюбленную тематику, играет словами (например, обыгрывает названии станции, которая, по сути, бездонна, недаром ведь поглотила последнего русского самодержца – ни дна ему, ни покрышки – подписавшего тут отречение от престола), то Лебедев разрабатывает свою: рисует вещи и взаимоотношения вещей, которые только прикидываются иллюстрациями. Более того, Лебедев подправляет рисунками текст «Багажа». Стихи потому и воспринимаются без хлопот. Место их заступает картинка, она становится опознавательным знаком, по которому вспоминают «Багаж». Лишний пример: иллюстрация в книге детской важнее слова, если может его заслонить и заступиться за текст.
Ложь, будто Маршак и Лебедев сотрудничали, создавая книги совместно. Они боролись, каждый твердил свое. Разве мог Лебедев согласиться с такими стихами:
Вон темно-красная божья коровка, Спинку свою разделив пополам, Вскинула крылья прозрачные ловко И полетела по божьим делам. (3) Или с такими, из той же «Разноцветной книги»? В ясный день гуляли птицы, Оставляя след крестом. (4)
Дело не в соотношение звезд и крестов, символики отмененной и принятой («старой и новой» сказать было бы неверно). Подобное соотношение давно решено. Символы взаимообратимы (в платоновском «Сокровенном человеке» дан замечательный по точности констатации и оценки пассаж). Дело в том, что стихотворный текст борется с рисунками. Стих часто дисгармоничен, неточен или аморфен.
Скользят огоньки по аллее, Спускаясь с московских холмов, И с каждой минутой тусклее Бессчетные окна домов.
Встречаясь на всех перекрестках, Бегут фонари через мост. А небо над городом – в блестках Далеких, чуть видимых звезд. (5)
Почему окна тускнеют с каждой минутой ночи? Почему фонари встречаются на перекрестках, если они бегут через мост? На лебедевской иллюстрации нарисованы огромные пылающие звезды Кремля и рядом с ними теряются настоящие ночные звезды. Воздвиглась новая вселенная. На титульном листе «Разноцветной книги» нарисована красная звезда. Помещенная в центре, звезда окружена рисунками-знаками, отличающимися по цвету, и как бы уравнивает твердым мановением лучей зеленую стрекозу и желтого верблюда, дом с освещенными в ночи окнами и рыбок, плавающих в синеве. Звезда означает разделение – каждому необходимое место, свой цвет – и одновременное объединение в промежутках между лучами. Динамику пятиконечной формы можно увидеть почти в каждом рисунке «Разноцветной книги». Стрекоза (четыре крыла и длинное туловище, направленное от зрителя), бабочка (снова четыре крыла и тяжелое туловище), по строению и по месту своему на странице противопоставленная стрекозе, будто антитеза, пятипалая морская звезда, верблюды, повернутые боком (ноги и длинная шея, словно лучи. Горбы прикрыты поклажей или восседающими на них людьми. Только верблюжонок с двумя горбами, незаметно пристроившийся в середине иллюстрации, удовлетворяет любопытство и подчеркивает форму других фигур. Законченный полукруг черепахи завершает смысловой ряд). Елка (острый шпиц, зеленые лапы, пара над парой), красные звезды среди прочих праздничных украшений (самолетов, флагов, шаров, сходных по цвету, отличных по виду). Картина ночной Москвы – пятиконечные кремлевские звезды встали пятью равномерными уступами. На обложке оформленных Лебедевым книг, с внутренней стороны или снаружи, часто размещены как бы символы, свод предметов, которые позднее будут действовать в книге, либо уже действовали. Мнемоника? Истинные герои повествования? Стадии сюжета? Возможно.
Значит, Е. Шварц в очередной раз не ошибся? «Как Шкловский, как Маяковский, он веровал, что время всегда право. [...] Лебедев веровал в сегодняшний день, любил то, что в этом дне сильно, и презирал, как нечто непринятое в хорошем обществе, всякую слабость и неудачу. То, что сильно, и людей, олицетворяющих эту силу, любил он искренне, любовался ими, как хорошим боксером на ринге. И узнавал их и распределял по рангам с такой безошибочностью, как будто они обладали соответственными дипломами или титулами. Больше подобных людей любил он только одно – вещи». (6) Вещи он и впрямь рисовал с любовью, тщательно, вдумчиво. Взять хотя бы «Цирк» 1925 года (а не маршаковскую неудачную поделку с таким же названием): воспроизведен даже рисунок на круглых сиденьях венских стульев. Наиболее сложное для понимания дальше. Слишком прямо пишет Шварц, а потому создается впечатление, будто он Лебедева осуждает, что герой шварцевских мемуаров отъявленный мерзавец. Между тем, и Шварц оговаривается – подобная душа чиста от греха, и Лебедев был действительно человеком. Но текст в силах вместить ровно столько, сколько в силах вместить. «У него была страсть ко всяким вещам. [...] Обширная его мастерская совсем не походила на комнату коллекционера. Как можно! Но в отличных шкафах скрывались отличные вещи. И в Кирове во время войны Лебедев потряс меня заявлением, что ему жалко вещей, гибнущих в блокадном Ленинграде, больше, чем людей. Вещи – лучшее, что может сделать человек. И он завел альбом, в котором рисовал оставшиеся в ленинградской квартире сокровища. Какой-то замечательный половник. Кастрюли. Башмаки. Шкаф в прихожей. Шкаф кухонный. Все эти вещи уцелели его молитвами, бомба не попала в его квартиру». (7) А если в иллюстрациях к стихотворению Маршака («Цирк», но не знаменитый, а плохонький, давно и правильно позабытый) содержится разгадка? В иллюстрациях волнует непонятное соотношение игрушечного, обманного, и природного, настоящего. Например, нарисован еж. Иголки, мордочка – чистая реальность, почти реализм (подпалина, глаза, влажный нос). Живая верхняя часть плавно переходит в деревянную подставку на колесиках. Вдруг это – возвышение, возведение живого до высокого ранга предмета и продление жизни, если не бессмертие?
Маршак тоже говорит о живом, но как говорит? Название «Детки в клетке» окрашено холодной хармсовской сладострастностью. Это Хармс толковал свой рассказ «Семь кошек» – так бы всех и посадил в одну клетку. А чего стоит придуманный Маршаком обжора воробей, пообедавший поочередно у льва, у лисицы, у кенгуру. Лебедев точно подметил эту воробьиную ненасытность и потому на его иллюстрациях воробей если и не близок по величине льву или слону, то, по крайней мере, с ними соизмерим. Впрочем, и у Маршака есть прекрасные строки, отлично выдуманные, увесистые, проработанные, которые искупают даже несколько дурных четверостиший. Идут гулять еж, ежиха и маленький ежик, герои «Тихой сказки»:
Вдоль глухих осенних троп Ходят тихо: топ-топ-топ. (8)
Но и эти строки теряются рядом с рисунками Лебедева. Он подхватывал мелодию времени и оркестровал по-своему, либо – создавал вариации на чужой мотив. Как это происходило? Хотя бы так. Повисший в воздухе мяч. Три фигуры – большая, поменьше и совсем маленькая. Наверное, юная мама и две дочки (или дочка и подружка?) Черты лица лишь угадываются, как угадываются и отношения тех, кто изображен на акварели. Кто кому кем приходится надо домысливать, догадываться по столь определенным, законченным жестам и позам, которые не есть только позы и жесты игры, в них чудесным образом отразились и взаимоотношения героев иллюстрации. Тревога, сопутствующая угадыванию, когда разгадка близко – еще чуть и поймешь – отсутствует. Знаком и мяч над землей. Знакома и полосатая футболка, надетая рыжеволосой то ли мамой, то ли старшей подругой. Кто не помнит работу А. Самохвалова «Девушка в футболке»? Лебедев, занимаясь делом, казалось бы, совершенно иным, не станковой живописью, а оформлением книги Маршака «Сказки, песни, загадки» для издательства «Academia», берет известную самохваловскую картину и создает на основе ее иллюстрацию. Художник умен. Он не собирается просто заимствовать созданный другим мастером знакомый образ. Героини лебедевской акварели разные. Они разнятся фигурами, возрастом, цветом волос (светлые волосы, темнеющие ближе ко лбу, как на портрете Самохвалова, у самой маленькой). Лебедев умножает самохваловскую героиню на три. Разводя и объединяя, сравнивая и показывая различия, художник утверждает – современность многолика. Но это слишком просто. Лебедев усложняет построение. Итак, три фигуры и мяч. В памяти всплывает работа А. Дейнеки того же 1932 года, что и работа Самохвалова. «Игра в мяч». Вот они, три женских фигуры, и даже причудливые узоры на мяче использованы в лебедевской иллюстрации. Акварель тонко разыграна: современность и многолика, и узнаваема.
«Багаж». Вещи. Он мог бы оставить картину прямоугольным цветным пятном, упрятать ее за другими предметами, пусть высовывается только уголок либо край рамы, и того достаточно. При постоянном перечислении мест багажа: диван, чемодан, саквояж, знаешь эти предметы, как свои собственные (частое перечисление, привыкание к вещам, принадлежащим даме, кажется, и создает сопереживание читателя, будто собственное потерял и не можешь найти). Тем более, внимание читателей привязано к живому – собачонке. Живому? По Лебедеву, живыми и являются предметы, вещи. Вещи волшебны, мистичны (не оттуда ли – вещий). Даже упомянутая картина. Выход в иной мир? Окно? У классического художника за окном жила бы природа, противопоставленная замкнутости комнатного интерьера. У сюрреалиста Магритта окно подчеркивает условность живописи. Оконное стекло разбито, за ним тот же пейзаж. Дурная бесконечность (термин, а не оценка). У Лебедева в «Багаже» изображение на картине, поставленной – прислоненной – в разных положениях (луна, два дерева), меняется. Деревья сливаются, опять расходятся, луна заслоняется ночным облаком, проглядывает сквозь серую дымку. Словно отсылка к «Сказке о глупом мышонке»: там художник поместил в верхней части каждого рисунка два окна. В них движется круглая и очень светлотелая луна. Постепенно, из одного окна в другое, преодолевая переплет рамы. Иногда заслоняясь облаками. Иллюстрации Лебедева размыкаются в еще более глубокий иллюстративный мир.
А действительность? Или жизнь истрачена на художество, главное в жизни? Не дает покоя: может быть, в рисунках к стихам Маршака «Кто колечко найдет?», «Усатый-полосатый» тот же самый тип лица, что и в «Женщине с гитарой»? Нет. Кажется, нет. Но не зря же писал В. Курдов о натурщице, пришедшей на лебедевские похороны. (9) Было ведь что-то между ними, определенно было. Разумеется, если всего лишь любовная история, не стоит и вспоминать: ушли люди, распались и отношения. Однако существовала ведь и какая-то одержимость, и в ее памяти, и в сдержанной чувственности той живописной работы, иначе бы Курдов не вспоминал и о картине, и о женщине, возникшей через тридцать семь лет (портрет написан в 1930 году), после всего, что сталось с ней, всего, что происходило с Лебедевым (а происходило ужасное – подлость и клевета). После войны. После жизни. Иначе бы и я не поверил горячим заверениям вспоминателя и не принялся бы выискивать сходство. Более того, видеть сходство в других работах с ее – притененным, оставленным художником в полутьме лицом. Надо позабыть о своем знании, помнить лишь о возможности совпадения, и тогда посмотреть снова. И вдруг увидеть?  
Примечания: |
|
|