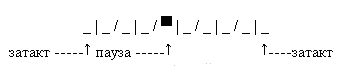Воложин С.
Тютчев и... модернисты, мнимые и настоящие
Глава 1. Что хуже для художественности: неискренность или отсутствие идеала?
Воложин С. Тютчев и... модернисты, мнимые и настоящие (рукопись). – Одесса, 1995 (публикуется в авторской редакции).
К оглавлению книги.
С. 2
Для
думающего интеллигента, тем более пишущего,
более всего подходит позиция «над схваткой».
Хотя ее очень нелегко занять и еще труднее
на ней удержаться – в интеллигенции тоже
очень сильно «роевое» сознание.
В. Лакшин
С. 4
Сходство
Кабакова с Тютчевым в отсутствии
у них идеала и отличие
Тютчева в честности его вне творчества
Существует целая
область искусства – авангард, – произведения
которого никак мне не поддаются: не удается
много сказать о каком-нибудь из них. А
вокруг авангарда гремит слава, что это
сложное искусство и нельзя пренебрежительно
к нему относиться.
И вот я натыкаюсь
на статью (Эпштейна), содержащую – не верю
глазам своим – толкование отдельно взятого
авангардистского (наверно, авангардистского)
произведения и даже одного-другого его
элемента, причем с замахом увидеть в элементе
смысл целого произведения:
«Возьмем, к примеру,
произведения художника Ильи Кабакова:
«Мусорный роман» (в 16 томах) и его же
«Мусорный человек». «Роман» – серия
альбомов, куда вшиты и подклеены устаревшие
документы, пожелтевшие бумаги – квитанции,
билеты, талончики, образчики картонов
и прочая чепуха. «Человек» состоит из
приклеенных к массивному деревянному
стенду частиц повседневного хлама: пушинок,
ниточек, осколков, очистков – всего того,
что мы находим на полу, под диваном, в
глубине ящика. Перебирая взглядом один
пустяк за другим, поначалу не понимаешь,
для чего они собраны вместе и какая тут
сквозит художественная идея.
Между тем к каждому предмету
приклеена этикетка, напоминающая, когда
и в какой связи он был куплен, подобран,
использован,
С. 6
выброшен, дающая краткую
справку о сопутствующих житейских обстоятельствах.
Все элементы мусора строго документированы
и вплетены автором в канву собственной
жизни. Причем в расположении этих предметов
нет никакого разгула, хаоса, подобающего
мусорной куче, – напротив, они очень тщательно
подобраны, стройными продольными и поперечными
рядами расположены на стенде, аккуратно
подклеены в альбоме. Этот идеальный порядок,
уместный в государственном архиве или
в музее значительного лица, так же как
и важный тон описаний, вступает в очевидное
противоречие с ничтожеством своих предметов.
Вот какая-то веревочка, а вот семечко
от яблока – и все прокомментировано с
той сухой обстоятельностью, которая пристала
вещам историческим.
И вдруг постигаешь совместную
значимость и этого порядка и этого ничтожества.
Порядок – то, чем должна стать наша жизнь,
что мы пытаемся из нее сделать, а ничтожество
– то, из чего она в действительности состоит.
Каждая подпись – это отчаянный порыв к
смыслу и к вечности, который расплывается
в скоротечности и ненужности того хлама,
который столь старательно описан. Порыв
– и его сгорание: горстка пепла. Тщательность
– ее тщета: груда мусора.
Мусор, снабженный этикетками,
притягивающими к пылинке все разнообразие
личной жизни, вдруг позволяет обозреть
эту жизнь как
С. 7
целое. Да что же она
такое? Разве не из этих вот пылинок она
состоит? А встречи? А болезни? А страх?
А надежды? Разве не были они в конечном
счете лишь сдвиганием, подметанием, накоплением,
разрежением все тех же пылинок?»
По моим грубым
критериям – довольно много сказано. Правда,
сразу о двух произведениях, правда, последний
абзац это другими словами повторенный
предыдущий, но все же, все же. Кое-что.
Причем, даже психологический критерий
художественности (Выготского) вроде выдержан:
сочувствие – противочувствие и – возвышение
чувств. Ничтожество – значимость и – бессмысленность
человеческой жизни.
Выходит – искусство?
Чем (по замыслу)
отличаются эти две вещи Ильи Кабакова
от, например, такого:
От жизни той, что
бушевала здесь,
От крови той, что
здесь рекой лилась,
Что уцелело, что
дошло до нас?
Два-три кургана,
видимых поднесь...
Да два-три дуба
выросли на них,
Раскинувшись и
широко и смело.
Красуются, шумят, –
и нет им дела,
Чей прах, чью память
роют корни их.
Природа знать не
знает о былом,
Ей чужды наши призрачные
годы,
И перед ней мы смутно
сознаем
Себя самих – лишь
грезою природы.
Поочередно всех
своих детей,
Свершающих свой
подвиг бесполезный,
Она равно приветствует
своей
С. 8
Всепоглощающей
и миротворной бездной.
Это Тютчев. «По
дороге во Вщиж».
По всей видимости
отличия по замыслу между Кабаковым и
Тютчевым нет.
И давайте вживемся.
Вдруг эти двое правы...
На меня раз нашло
такое мироощущение.
Я был в отпуске.
Стояло лето. Я с женой и сыном приехал
в Одессу, солнечную Одессу. Меня освободили
от быта, даже морально. Теща достала мне
курсовку в санаторий, и я совершенно не
обременял семью собою. И среди этого летнего
счастья, свободы и беззаботности я вживался
в страшные картины Чюрлениса о конце
света, а так же читал кстати купленную
свежую популярную книжку по физике. Для
меня явилось откровением в книжонке,
что вселенной-то нашей осталось расширяться
лишь 15 миллиардов лет. А потом она начнет
сжиматься, и лет этак через еще 15 миллиардов
она сожмется в первоатом, опять в первоатом,
величиной в долю сантиметра, выражаемую
десятичной дробью с более чем десятком
нулей после запятой. Все, ну абсолютно
все нынешнее исчезнет! И оттого, что это
внешне совпало с финитными картинами
Чюрлениса и что названо было конкретное
время конца света – меня вдруг проняло.
А в санаторской
столовой за одним столом со мной сидела
пожилая дама, пожилой мужчина и молодой
еще человек, то и дело опаздывавший или,
наоборот, до конца не доев, удиравший
куда-то. Свидания, как оказалось. «Изменил
жене?»– журила его пожилая женщина. «Изменил?»–
снисходительно молчал пожилой мужчина.
А молодой человек оправдывался естественными
позывами.
С. 9
Я же думал: «А правда:
к чему вообще моральный указ, если все
равно все летит а тартарары?» И не находил
ответа. И не мог позволить себе освободиться
уж совсем, так, например, чтоб изменить
жене.
Итак, из нас четверых
за столом двое совершали в жизни свой
подвиг, но все же бесполезный. Эти жили
так, как живет человечество в целом: будто
есть цель, ради которой оно, человечество,
живет. Один, молодой ловелас, никакого
подвига не совершал, ничем себя не ограничивал.
А я ограничивал. Но был это, пожалуй, не
подвиг, а сделка в духе разумного эгоизма:
обузданность – удобнее.
Тютчев же – раскован.
Самообман двух пожилых моих соседей и
бездушность третьего – были бы не для
него. Он, как, извиняюсь, я, все знал, но
ни на какие сделки (как я?) с окружением
не шел. Он одинаково ценил и высокое и
низкое в человеке и не связывал себя,
исповедуя оба идеала. А если скажете,
что это невозможно, я соглашусь: он одинаково
не ценил ни высокое, ни низкое и не связывал
себя ни с каким идеалом. Без идеала. Разочаровался
во всем. И в нравственном подвиге человечества,
живущего как если бы был высший смысл,
божественный промысел существования,
чувствуемый человечеством. Разочаровался
и в растительной и животной, естественной
жизни всего, что не человечество, что
не чувствует цели, промысла.
Поочередно ВСЕХ
своих детей,
Свершающих свой
подвиг БЕСПОЛЕЗНЫЙ...
Человек, дуб... Какая
разница?
И тогда понятно,
почему Тютчев наплевательски относился
к своему творчеству:
С. 10
«...Любезный друг, я сильно
сомневаюсь, чтобы бумагомаранье, которое
я вам послал, заслуживало чести быть напечатанным,
в особенности отдельной книжкой».
«...Но возвращаюсь к
моим виршам: делайте с ними что хотите,
без всякого ограничения или оговорок,
ибо они – ваша собственность...»
«...когда я пишу, я никогда
не говорю ни того, что хотел бы, ни так,
как хотел бы, – вот это-то и внушает мне
безмерное отвращение к писанию».
«...вы знаете, как я всегда
гнушался этими мнимоэпическими профанациями
внутреннего чувства, этою постыдною выставкою
напоказ своих язв сердечных... Боже мой,
боже мой, да что общего между стихами,
прозой, литературой, целым внешним миром
и тем... страшным, невыразимо-невыносимым,
что у меня в эту самую минуту в душе происходит...»
Искренний
декадент глазами Достоевского
А теперь давайте
послушаем человека, который честнее Тютчева
и выставляет напоказ свои язвы, давайте
послушаем героя повести Достоевского
«Записки из подполья» (только под «зубной
болью» понимайте, пожалуйста, боль, так
сказать, социальную).
«...и в зубной
боли есть наслаждение, – отвечу я... Тут...
стонут; но это стоны не откровенные, это
стоны с ехидством, а в ехидстве-то и вся
штука. В этих-то стонах и выражается наслаждение
страдающего... прислушайтесь когда-нибудь
к стонам образованно-
С. 11
го человека девятнадцатого
столетия, страдающего зубами, этак на
второй или на третий день болезни, когда
он начинает уже не так стонать, как в первый
день стонал, то есть просто... Стоны его
становятся какие-то скверные, пакостно-злые
и продолжаются по целым дням и ночам.
И ведь знает сам, что никакой себе пользы
не принесет стонами; лучше всех знает,
что он только напрасно себя и других надрывает
и раздражает; знает, что даже и публика,
перед которой он старается, и все семейство
его уже прислушались к нему с омерзением,
не верят ему ни на грош и понимают про
себя, что он мог бы иначе, проще стонать,
без рулад и без вывертов, а что он только
так со злости, с ехидства балуется. Ну
так вот в этих-то вех сознаниях и позорах
и заключается сладострастие. Дескать...
«скверно слушать мои подленькие стоны?
Ну так пусть скверно; вот я вам сейчас
еще скверней руладу сделаю...» »
Расшифруем образ.
Что происходит?
Больной – «образованный человек»
– не такой, как низменное большинство.
Большинство – морально здорово (он это
уже признает), оно живет естественной
жизнью высших приматов с их, например,
похотливостью, чревоугодием, вообще чувственностью,
а он – морально больной (тоже уже признает).
И он хотел бы быть здоровым (естественным),
да вот – больной, с идеями. Отличается
от массы. И ненавидит ее. От зависти? Или
от ненависти к себе? От ненависти, что
как все он стать
С. 12
не может. Хочет,
но не может.
Прежнее в нем, высокое,
то, что он сейчас болезнью признает, не
может из него уйти: он же не марионетка,
он сколько-то постоянен, он еще помнит,
как уважал себя прежнего, скажем, продекабриста
(чтоб привязаться ко времени Тютчева).
Крепиться в прежнем,
в высоких идеалах – сил нет. Он в высоких
идеалах разуверился. Он только из упрямства,
он только головой, половиной головы, считает
себя здоровым, а большинство вокруг –
больным. А другой половиной головы и всем
остальным телом он, слабый, с большинством.
Раздвоение. Это
мучительно. Воет. Это особо мучительно.
Особо мучительно – особо воет. Вой облегчает
страдания. Особый вой – выражает ненависть
к низменному большинству того, высокого
«я». Вой выражает взаимную жалость первого
ко второму за низость, и второго к первому
– за неизжитую высокую устремленность.
Вой выражает ненависть низменного второго
к себе первому, за то, что этот высоконравственный
первый не дает второму жить, как большинство.
Как
оправдать притворство Тютчева-художника
Если можно назвать
искусством рулады стона больного, если
тот – художник, то искусство – и произведения
Ильи Кабакова. Упомянутые, по крайней
мере. И таким же искусством были бы стихи
Тютчева, если б он позволил себе в своих
писаниях, виршах, бумагомаранье выразить «безмерное отвращение к
писанию», если
б он не постыдился выставить «напоказ
свои язвы сердечные».
И если б не постыдился, то стали б, может,
они ему дороги, хоть и стали бы, прямо
скажем, неискусством, и он тогда хотел
бы
С. 13
уже их публиковать,
как модернисты – разочаровавшиеся художники
ХХ века.
Рулады больного
хоть были враньем на себя, были враньем
– в частности, и не были враньем по сути.
И потому достойны уважения за известную
честность. Тютчев же, – тоже не давая адекватного
выражения себя, – врал, однако, по сути
гораздо больше. И потому так плохо относился
ко своим стихам.
В таком отношении
– его честность; в нем – больше, чем в творчестве.
Так я спас тезис,
что утрата идеала – подрывает художественность,
искусство как таковые. Но так – погубил
тезис, что неискренность вредит художественности
тоже по крупному.
Как тут быть? Высочайшее
качество стихотворений Тютчева очевидны.
Выход, думаю, есть.
Не имея никакого идеала: ни высокого,
духовного, ни низкого, чувственного –
Тютчев на короткий отрезок времени делал
лирическое «я» своих стихов доступным
любому идеалу.
Вот – низкому:
Нет, моего к тебе
пристрастья
Я скрыть не в
силах, мать-Земля...
Духов бесплотных
сладострастья,
Твой верный сын,
не жажду я...
Вот – высокому:
Хоть я и свил
гнездо в долине,
Но чувствую порой
и я,
Как животворно
на вершине
Бежит воздушная
струя, –
Как рвется из
густого слоя,
Как жаждет горних
наша грудь,
С. 14
Как все удушливо-земное
Она хотела б оттолкнуть!
Вот лирическое
«я» тютчевского стихотворения воспевает
чувственность:
...есть сильней
очарованья:
Глаза, потупленные
ниц
В минуту страстного
лобзанья,
И сквозь опущенных
ресниц
Угрюмый, тусклый
огнь желанья.
А вот – другое «я»,
воспевающее духовность любви:
Живым сочувствием
привета
С недостижимой
высоты,
О, не смущай, молю,
поэта!
Не искушай его
мечты!
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Но если вдруг
живое слово
С их уст, сорвавшись,
упадет,
сквозь величия
земного
Вся прелесть
женщины блеснет,
И человеческим
сознаньем
Их всемогущей
красоты
Вдруг озарятся,
как сияньем,
Изящно-дивные
черты, –
О, как в нем сердце
пламенеет!
Как он восторжен,
умилен!
Пускай любить
он не умеет –
Боготворить умеет
он!
И художественности
вовсе не чуждо такое, получается, лицемерие,
изменчивость и, значит, притворство. Смотрите
почему.
Первоисточники
художественности и нехудожественности
Квинтэссенция
художественности – противочув-
С. 15
ствие; противочувствие
– на всех уровнях. В частности – наличие
дистанции между лирическим «я» стихотворения
и «я» автора этого стихотворения, как
ни близки герой и автор в лирике. Лирика
же, – по Бахтину, – это видение и слышание
себя изнутри эмоциональными глазами
и в эмоциональном голосе другого. Лирика
это слышание лирического «я», героя,
в авторитетном авторе. Авторитет же автора
есть авторитет хора (Бахтин имел в виду
греческую трагедию с ее перекличкой героя
и хора). «Я», герой, какой бы «я» ни был, –
в лирике чувствую себя любимым многими,
хором, в лице автора. «Я» весь просквожен
возможным хором, духом музыки или, формально
говоря, метром в музыкальном смысле этого
слова, т.е. суммой одинаковых тактов. Но
метр не выражает меня, прототипа лирического
героя. Моя свобода воли и активность несовместимы
с метром. Моя жизнь (переживание, стремление,
поступок, мысль) не может быть метрирована
в категориях нравственной свободы и активности.
Моей жизни соответствуют естественные
фонетические свойства речи или иначе
– фразирующая тенденция произнесения,
автору-хору – тактирующая, а «моей» (в
кавычках) жизни, жизни лирического героя,
«я» – соответствует ритм, наложение фразирующей
тенденции на тактирующую. Все это, если
очень общо, диалектически, есть – тезис,
антитеза и синтез, а в духе психологии
искусства (по Выготскому) – противочувствие
и возвышение чувств – гвоздь художественности.
А искренен или
неискренен автор – вопрос другой. Сумел
притвориться – молодец. И вопрос третий
– почему сумел. И если сумел, то что угодно
доста-
С. 16
точно выразить
в стихах и этим «уже
предполагается гармонизированная форма
языкового воплощения, и на этом мощном
экране проступает, как тайнопись, та красота
и гармония, которая [по
мнению автора] скрыта
и растворена в неязыковой действительности» («Очерки истории
языка русской поэзии ХХ века»), а иными
словами – проступает авторитетный идеал,
каким бы он ни был: низким или высоким,
чувственным или одухотворенным, земным
или небесным. Как только есть авторитетный
идеал, так – есть авторитетность автора,
так – подразумевается хор.
А как только авторитетного
идеала нет, так (по Бахтину) «наступает
разложение лирики, ослабляется доверие
к возможной поддержке хора, а отсюда своеобразный
лирический стыд себя, стыд лирического
пафоса, стыд лирической откровенности
(лирический выверт... лирический цинизм)» – рулады стона человека,
страдающего зубной болью, если вспомнить
героя «Записок из подполья». «Это
как бы срывы голоса, почувствовавшего
себя вне хора, –
и Бахтин добавляет.– Это
имеет место в декадансе... Возможны своеобразные
формы юродства в лирике».
Признаюсь, вместо
троеточия в последней цитате у Бахтина
вписана кроме декадентства и юродства «так называемая реалистическая
лирика (Гейне)».
И последнее я объяснить не могу. Зато
реалистическая лирика нас здесь и не
интересует.
А вот декаданс
и юродство как раз к месту.
Декаданс
и юродство это то, что
бывает после всех разочарований
С декадансом просто.
Это тот самый (образно) больной (социально
больной) из «Записок из подполья». Декадент
и в высоких идеалах разочаровался, и низкими
не очаровался. Оказался без идеала.
С. 17
Вот и воет. Руладами.
Другой вопрос:
почему оставшийся без идеала Тютчев свое
состояние выражать себе не позволял,
а декаденты – позволили.
Ответ, наверно,
такой подойдет: в другое время жил Тютчев
и был русским.
Декадентство, по
крайней мере под таким названием, началось
во Франции, в сердце Европы, в середине
XIX века, где (в Западной Европе) и когда
как раз и жил Тютчев. Но душой-то он был,
видно, все же в России. А Россия отставала
в социальном развитии. В нероссийской
Европе после революций 1848 года началась
в искусстве широко понимаемая экспрессионистская
(выразительская, в отличие от изобразительской)
тенденция (по Недошивину), стремление
отражать крайнюю конфликтность тогдашнего
капитализма, скрыто чреватого коммунистической
революцией. И поскольку скрыто, постольку
плодящего разочарование во всем. Особенно
к 1848 году издергались художественные
силы во Франции, бурлившей революциями
с 1792 года. И все поражения и поражения
там (да и везде) терпела мелкая буржуазия,
основной поставщик художников. Зараза
отсутствия идеала постепенно перешла
на художников других стран Запада. Но
русский, дворянин, Тютчев был им не чета
и не мог еще позволить себе стать на путь
декадентства, путь публикования своих
противных большинству, хору (по Бахтину),
стонов. А когда в России стало уже до них,
Тютчева не было уже в живых.
А теперь посмотрим
еще на одно интересное явление – юродство.
Тем более интересное, что им как
С. 18
раз объяснял авангард
начала века Эпштейн, интерпретатор «Мусорного
романа» и «Мусорного человека» Ильи
Кабакова, идейного родни Тютчева.
Итак, юродство
в лирике.
Лучше всего, по-моему,
к нему подходят бахтинские слова: «...это как бы срывы голоса,
почувствовавшего себя вне хора». А психологически это
можно понять так: лучший способ защиты
– это нападение. Почувствовал себя вне
хора, пустил петуха – пой петухом и дальше,
будто за тобой правда. Аплодисментов,
конечно, не сорвешь, могут тухлыми яйцами
забросать. Зато спел, что хотел, до конца.
Почувствовать
вдруг себя вне хора – это вдруг лишиться
социальной базы, это обычное дело, например,
в потерпевшей поражение революции... Прогрессивная
интеллигенция, скажем, охладевает к революционной
добродетели, а художник (не марионетка
же он публики) – нет, не охладевает. Вот
и оказался вне хора.
Я вставлю сейчас
конкретную аналогию, которой был свидетелем.
Раз я присутствовал
на, так сказать, исполнении особого произведения
– чтении стихов под разглядывание слайдов
с тибетских картин Рериха. И случилась
неувязочка. Испортился проектор, ремонтник
не появлялся, публика стала раздражение
свое вымещать на декламаторше-поэтессе.
А та бросилась в нападение: принялась
выкликать проклятия нерадивости и злым
людям, в том числе и затесавшимся в зал;
случившееся с проектором выставляла
типичным явлением нашей современности,
начала верещать о каком-то ужасном, едва
не апокалиптическом перио-
С. 19
де, который по религии,
изобретенной Рерихом же, вот-вот должен
наступить; женские прически-пики служили
ей доказательством ее предсказаний.
Чисто логически
и психологически можно было поэтессу
понять. В зале было много если не симпатизирующих,
то желающих познакомиться с религией
Рериха, и можно было сколько-то рассчитывать
забить баки и с поломкой проектора. Но,
думаю, она понимала и то, что реально –
дело безнадежное, и она впала в юродство.
Истерика при исполнении обязанностей.
Волосы ее растрепались... Она не обращала
внимания... Смысл действа в общем-то сохранил
первоначальную направленность (когда
слайды еще смотрелись и звучали стихи).
Только с порчей проектора утратилась
стихотворная форма. И скандал, раз уж
он разгорелся, поэтесса не замять пыталась,
а раздуть, раз публика – не с нею.
Совсем как авангардист
Маяковского в стихотворной иллюстрации,
приведенной упомянутым Эпштейном по
поводу юродства и авангарда:
Это взвело на
Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы,
Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни, распни его!»
Стих
классический и неклассический: от наличия
идеала к утрате его?
И вот тут очень
кстати – сопоставить Тютчева, стих классический,
с так называемым неклассическим стихом
Маяковского и других революционеров
ХХ века в области художественной формы.
«Маяковский... пытается
осуществить революцию поэтического языка
интенсивным путем, –
пишут очень благожелательные исследователи, – взрывая ритмико-синтаксические
клише изнутри»
С. 20
(«Очерки истории
языка русской поэзии ХХ века»).
Будь Маяковский
поэтом классического толка, ритмико-синтаксическое
клише стихов о Голгофе аудиторий было
бы в виде четырехстопного амфибрахия:
| _ / _ | _ / _ | _ / _ | _
/ _ |
Ну, может, с затактом
в начале или конце стихотворной строки.
И исследователи делают эксперимент: достаточно,
мол, Маяковскому было написать:
Москвы, Петрограда,
Одессы и Киева –
как он бы уложился
в классическое клише. Так нет. Маяковский
поменял местами:
Петрограда, Москвы...
и добился нарушения
классического клише:
«В. В. Маяковский, – продолжают исследователи, – сам писал, что одной из особенностей
организации своего стиха считает допустимость
вставок слов, имеющих лишние или недостающие
слоги, в стиховой отрезок».
Но как ни благожелательны
исследователи, они признают: подобный
метод «приводит к
тому, что колебание слогов
[в строке] начинает
превышать 1-2 слога, и дольник превращается
в тактовик или акцентный стих, для осознания
которых как особого вида ритмической
организации часто высказывания отдельно
взятого стиха не достаточно».
Дольник, тактовик
и акцентный стих были и до Маяковского.
Но у него они стали применяться сплошь
да рядом. И тогда спрашивается: на таком,
дисгармоничном, экране может проступать, –
как на
С. 21
классическом, – «та красота и гармония, которая
скрыта и растворена в неязыковой действительности»?
Не может. А Маяковскому,
видно, и горя мало, ибо нет для него, по-видимому,
в неязыковой действительности, окружавшей
его, красоты и гармонии. Конфронтационная
эпоха бушевала вовсю и позволяла широко
понимаемой экспрессионистской тенденции
овладевать искусством и выражать дисгармонии.
А благосклонные
исследователи продолжают инвентаризировать
революционные действия авангардистов.
И получается, что к интенсивному пути
взрывания изнутри ритмико-синтаксических
клише (по-маяковски) Хлебников добавляет
свой путь, экстенсивный – полиметрию,
т.е. сложное комбинирование различных
размеров в тексте:
...Ссыльным потом
помогала, сделалась красной.
Была раз на собрании
«Воли народной»– опасно как! –
На котором все
участники позже
Каждый
Качались, удавлены
Шеями в царские
вожжи.
Согласитесь, трудно
эти строки осознавать стихами. Я подчеркнул
рифмы, чтоб вы убедились, что это все-таки
стихи.
А теперь дайте
себе отчет: вот такие Маяковский и Хлебников
– кто? Чем они не юродивые тут?
Чем юродивый отличается
от просто (благопристойно) верующего?
Первый более нервен. Второй поспокойнее.
Второй, хоть тоже находится в разладе
с действительностью, но живет надеждой
на спасение.
С. 22
Второй, хоть царство
Божие видит после аж апокалипсиса, но
все же – видит: в сверхбудущем. Просто
верующих относительно много. Они объединены
в секты или церковные приходы, а те более
или менее удобно расположились в мире, «срослись с тем миром, для
осуждения и разрушения которого явились
на свет» (Эпштейн)
эти секты и церкви. Юродивый же не только
одинок, но и поставлен в условия, требующие
немедленного доказательства перед враждебным
окружением правоты своей насчет сверхбудущего.
Юродивый не может хотя бы подсознательно
не переживать безнадежность своих доказательных
действий. Юродивый вполне должен переживать
свои действия, как действия человека,
лишившегося веры, как истерику. Вот в
такую истерику впала из-за казуса с проектором
поэтесса, верящая, в конечном счете, в
добро, которое победит, все же, по рериховской
религии.
И сходна аналогия
с другой верой, – в революцию, – к которой
как раз и имеют отношение Маяковский
и Хлебников. К юродству в революции они
были приговорены уже своей аллергией
к относительно благополучному (таким
тогда он уже стал) символизму, который
есть не что иное как отражение в искусстве
веры в некое непостижимое, мистическое
сверхбудущее. Россия же входила в революционную
эпоху, сверхбудущее отвергавшую ради
будущего. Успехи науки за предыдущие
300 лет, а особенно за 100, тоже не располагали
к религии при всем кризисе, который начинался
в естествознании на рубеже XIX и ХХ веков.
Так что верить в социальную революцию
было естественно. И смерть символизма
была неизбежна.
С. 23
Но фактом было
и поражение революции 1905 года. А кое-кто
этот факт еще и предчувствовал. Это как
у моей поэтессы-по-Рериху: порча проектора
и недовольство публики.
Авангардисты сочли,
что действовать нужно немедленно (а где?
– ясно, что в области искусства – делать
художественную революцию).
А социальным революционерам
(как просто верующим христианам на втором
тысячелетии существования христианства)
особенно уж спешить и нервничать было
ни к чему.
Социальные революционеры
были историческими оптимистами, чего
о художественных революционерах самого
начала ХХ века не скажешь. Те оказались
истерическими оптимистами. Художественная
революция была истерикой творца, чувствующего
свое практическое бессилие повлиять
на враждебное окружение (отшатнувшуюся
от революции интеллигенцию) в своем духе.
Художественная революция была истерикой
творца, не способного, с другой стороны,
отказаться от себя, от попытки повлиять.
Для авангардистов
ситуация получилась, в итоге, такая же,
как для героя «Записок из подполья»,
как для декадентов, творцов, лишившихся
идеала.
И не совсем правы
благожелательные исследователи поэтического
языка ХХ века:
«...именно благодаря
революционным внутриязыковым преобразованиям...
поэзия в принципе оказалась готовой к
1917-1920гг [своими] парадоксальными – с позиций
90-х – 900-х годов – средствами познания революции...
Другое дело, что сама
революция и новое
С. 24
общество далеко не сразу
догадались, кто именно их настоящие поэты
и художники, а «стилевая политика» нового
общества долгое время оставалась неоправдано
пристрастной...»
Кому-то, теперь,
глядя на тупик, в который зашла через
70 лет страна после революции 1917 года,
все ужасности художественной революции
кажутся соответствующими ужасностям
социальной революции. И, критикуя ужасы
социальной, кое-кто, теперь, аплодирует
русским авангардистам начала ХХ века.
Аплодирует за якобы отражение предчувствуемых
ужасов социальной революции. А раз, мол,
ужасами ужасы представил, то, значит,
мол, отвергали ужасы социальные и – достойны
аплодисментов.
Это, однако, заблуждение.
Большевики верили
в социализм и коммунизм. И им, так или
иначе, поверило – факт – большинство народа.
Вера оказалась иллюзорной. Но в то время
она иллюзией не выглядела. Весь мир напряженно
наблюдал: а вдруг это не иллюзия. Исторический
оптимизм был на подъеме. И ему вовсе не
соответствовал истерический оптимизм
авангардистов. Поэтому народ не принял
авангардное «искусство».
Бобэоби пелись
губы,
Вээоми пелись
взоры,
Пииэо пелись
брови,
Лиээо – пелся
облик.
Гзи-гзи-гзэо пелась
цепь.
Так на холсте
каких-то соответствий
Вне протяжения
жило Лицо.
Хлебников.
1908-1909гг
С. 25
Если б это была
песня – другое дело. Там словесная бессмыслица
вполне бывает терпима. Вспоминается Белинский:
«...лирическую поэзию
можно сравнить только с музыкою. Есть
даже такие лирические произведения, в
которых почти уничтожаются границы, разделяющие
поэзию от музыки. Так, например, многие
русские народные песни удерживаются
в памяти народа не содержанием своим
(ибо в них почти совсем нет содержания),
не значением слов, из которых состоят
(ибо соединение этих слов лишено почти
всякого значения, и, при грамматическом
смысле, не имеют почти никакого логического),
но музыкальностию звуков, образуемых
соединением слов, ритмом стихов и своим
мотивом в пении, или своим «голосом»,
как говорят простолюдины».
Свидетельствую
для горожан: правда. Хоть я и сам коренной
горожанин и живьем народные песни со
мной не соприкасались, но баюкала меня
мама, русскоязычная еврейка, еврейской
колыбельной. Так моя память сохранила
мелодию припева и слова, для меня не имеющие
никакого смысла сами по себе:
...А-а, а-а, а-а,
а
Цигелэ а ва-айсэ...
И в сознании моем
это навсегда теперь имеет окраску прелести
и неги.
И все же смею возразить:
Белинский не вправе смешивать лирическую
поэзию с песней. Песня все же музыкальное
произведение, хоть и пограничное с по-
С. 26
эзией.
И если б бобэоби
Хлебникова связались в сознании какой-то
группы, например, с тоже колыбельной –
это было б уже не его произведение (поэта).
А что он хотел передать
своим заумным языком – так никогда никому
и не станет внятно, ибо это уже за границами
литературы, материалом которой является
мысль, выражаемая словом, не теряющим
основной функции слова – быть средством
общения.
Томашевский считал,
что в этом хлебниковском сочинении каждое
заумное слово тут же, в стихе, получает
комментарий. Вряд ли это так. Грамматика,
вроде, не та. Если губы пели себя (пелись),
пели о своей сущности:
«Бобэоби», то почему нет двоеточия,
тире, кавычек? Правда, может, бобэоби это
наречие? А сущность губ – в их подвижности.
Сочетание «бо», потом «бэ» и
так далее действительно заставляет губы
интенсивно двигаться. Но как тогда быть
с другими заумными словами? Между вээоми
и взорами никакой ассоциативной связи
нет. И далее – то же. «Гзи-гзи-гзэо»
с цепью что-то общее имеет (звукоподражательное):
цепь лязгает, звенит. Но ведь не тогда
же, когда висит на шее!.. А шея тут причем:
к лицу близко?.. – В общем, не о чем разговаривать.
«Стих» годится
лишь для скандала: разозлить ничего не
понимающих мещан элитарностью поэта.
Это, как раз, – стихи
времени реакции после революции 1905 года.
Было кому и кого злить.
Но и после победительной,
Октябрьской, революции 1917 года нашлись
футуристы (кто не пошел в агитационный
уклон, как Маяковский), оказавшиеся опять
без социальной базы. Ну, разве это социаль-
С. 27
ная база была в
так называемый «кафейный» период футуризма
(когда печататься было негде) – эксцентрическая
деклассированная интеллигенция, любящая
эстрадные скандалы? Это если и были единомышленники,
то – в растерянности от революции, в отсутствии
идеала, в неприкаянности. Часть «кафейных»
футуристов была из дореволюционных эго-футуристов,
последователей Игоря Северянина, до революции
успевших-таки приспособиться к мещанству
(мещанству после 1905-го года тоже хотелось
остренького; да и вообще всех авангардистов
рано или поздно враждебная им среда приручает,
слегка подделавшись под них; так и первых
христиан, очень похожих на поздних юродивых,
среда приручила, и они стали не вполне
юродствующими – просто истовыми христианами).
После 17-го года социальные связи у эго-футуристов
опять оказались порванными (Лежнев). И
явился имажинизм, еще более скандальный.
А что такое скандал?
Это уже выход в жизнь, а не искусство.
Искусство (по Натеву) есть непосредственное
и непринужденное испытание сокровенного
мироотношения человека в целях совершенствования
человечества. Из этой длинной формулы
возьмем одно слово: непринужденное. То
есть артист вам гарантирует, что вы не
будете иметь дело с жизнью, а будете –
с чем-то другим, не принуждающим. Так,
эротическая поэзия возбудит в вас не
похоть, а воздействует на подсознание
и, тем самым, на будущее, отложенное во
времени поведение, причем сделает то
ваше поведение для испытуемого большинства
общественно приемлемым. А кто-то (не выдержавший
испытание, но это обязательно меньшинство)
– поступает
С. 28
неприемлемым для
общества образом... Так что отношения
искусства и этики совсем не просты. И
уж во всяком случае искусство не предназначено
по сути своей просто заражать эмоцией.
А как только артист захочет вмешаться
в жизнь поэффективнее, так его искусство
становится прикладным (марш, танец, публицистика
и т. п.) или же произведения его превращаются
то в религиозную проповедь, то в воспитательный
урок, в агитку, то в оккультное деяние,
то в развлечение, вакханалию или хулиганство,
скандал.
Много есть путей
скатиться в неискусство. И авангардисты
некоторые из них хорошо освоили.
А так как будетляне
(футуристы) себя втравливали в скандальность
больше не по чувству, а по рассуждению,
то, когда отпускали себя на волю, когда
вели себя естественнее, тогда становились
понятными людям, их деяния опять приобретали
характер искусства, и по типу оно становилось
маньеристским (в терминах ХVI-ХVI века),
символистским (в терминах ХIХ века): разочарование
в настоящем и будущем и вера в сверхбудущее.
Таков тот же Маяковский («Про это», стихи
о любви и др.).
Юродствуя же и
удерживаясь в пределах якобы искусства,
они издавали своеобразные рулады стона,
как упоминавшийся герой Достоевского,
внутренне от этого типа, утратившего
идеал (декадента), все-таки отличаясь.
Но ненамного. Ибо авангардистский выход
из отчаянного положения, это ложный, на
виду лежащий выход, ложным же и осознаваемый
художником, это еще одно воплощение практической
утраты идеала, которая – никакая – человечеству
не нужна. Не
С. 29
нужна, ибо как мы
себе ни хотим, а человечество игнорирует
тот факт, что погибнет и оно, и солнечная
система, и нынешняя Вселенная.
Почему
у Тютчева идеала нет, а стих
– классический
Другое дело, что
от инерции, что ли, – как у Тютчева в стихотворении
«По дороге во Вщиж», – утрата идеала иногда
все еще не отражается на форме произведения.
А стихотворение
это у Тютчева одно из последних. Вскоре
после его написания Тютчев умер. А до
этого стихотворения он не позволял себе
так раскрываться. Все притворялся то
одним, то другим – противоположным. Но
– не настоящим.
Получилась – разнонаправленность
творчества. Чтение одного стиха за другим
– сбивало впечатление. Равнодействующая
оказывалась близкой к нулю. А составляющие
этого нуля – противодействующие якобы
идеалы: жизнерадостность и сверхисторический
оптимизм, т. е. почти пессимизм – не нужны
были России в середине ХIХ века.
Тютчев, по-моему,
не зря был забыт в прошлом столетии (а
он не в ходу был, пишут). Перемещавшийся
в Россию центр мирового революционного
движения в конечном счете определил романтическую
(в широком смысле, шире эгоизма) тенденцию
в русском, казалось бы, по доминанте реалистическом
искусстве. Рецидив романтизма у позднего
Пушкина, своеобразный реалистический
маньеризм Гоголя, Лермонтова и Достоевского,
романтический уклон у эпиков Толстого
и Шишкина, антикрепостническая, антимонархическая,
демократическая идейная подоплека всего
критического реализма и художников передвижников.
Романти-
С. 30
ческой, предчувствующей
свою провиденциальную роль в мире России,
был, по большому счету, не нужен Тютчев,
несмотря на его политические взгляды,
пророчествующие России роль центра великого
православного государства, спаянного
верой и любовью, и со святыней – христианским
алтарем, вновь поставленным в святой
Софии, в Константинополе.
Пади пред ним, о
царь России,
[перед софийским
алтарем]
И встань как всеславянский
царь! –
восклицал Тютчев
в 1850 году, незадолго до крымской войны.
Крымскую войну, однако, Россия проиграла.
И хоть Болгарию позже и освободила, но
политически славянская идея оказалась
неплодотворной. А главное, публицистика
в принципе короткоживущая вещь. Иллюстративность
же – стихи на политические темы – знаменует
слабые стихи. Такие не могут проникать
глубоко. Так исторический оптимизм Тютчева
(в политике) и пропал для ХIХ века.
Зато, – когда по
мере разгорающейся социальной борьбы
стали все больше и больше появляться
разочарованные не только в мерзкой наличной
действительности, но и в историческом
будущем, в возможных победителях – революционерах, –
крайне разочарованный Тютчев понадобился.
К оглавлению книги.
|