 |
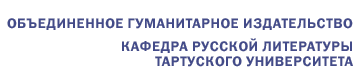 |
|
Глава 3 Ниже мы будем говорить о синтактике текстов Бродского, однако, основным объектом нашего исследования будет метафора1, точнее, механизмы ее формирования. Мы рассматриваем не лингвистические единицы, а знаки более высокого уровня и последовательность их расположения. При этом мы исходим из того, что для Бродского синтагматическое измерение текста имеет первостепенное значение. Думается, на сегодняшний день уже ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что в текстах Бродского отразилась устойчивая авторская модель действительности, которая мало изменялась с эволюцией его как человека и как поэта. Об этом немало написано, начиналось же все с работ Ю. М. и М. Ю. Лотманов2. Они впервые показали, насколько глубоко текст у Бродского связан с реальностью, которую он описывает. Это даже не столько отношения описания, сколько отношения репрезентации, метонимического замещения частью целого. Поэтому по всем признакам и на всех уровнях, от графики до семантики, текст оказывается своеобразным субститутом реальности. По сути, это же самое явление, только несколько с другой точки зрения, исследуется в работах Д. Ахапкина. В этой связи он предлагает термин «филологическая метафора» [Ахапкин 1998]. За основу исследователь берет понятие «структурная метафора», выдвинутое Лакоффом и Джонсоном [Лакофф, Джонсон]. Метафора мир есть текст, по мысли Д. Ахапкина, является структурообразующей для поэтики Бродского. При внимательном рассмотрении выявляется некоторая разница между метафорой мир есть текст и метонимией текст есть мир (его репрезентативная часть), которая подразумевалась выше, но для нашего исследования это несущественно, хотя вторая позволяет более точно описать некоторые нюансы. И в том, и в другом случае актуализируется эквивалентность и взаимозаменяемость понятий мир и текст в поэтическом сознании Бродского. Это убедительно показали упомянутые выше исследователи на материале разных текстов Бродского, каждый со своей точки зрения. Для нас более интересно выяснение того, каков конкретный механизм такой взаимозаменимости. Разумеется, каждое новое стихотворение дает новый способ решения задачи. При этом, на наш взгляд, есть несколько универсальных для Бродского приемов, с помощью которых он строит свои модели. Поэтому даже исследование небольшого корпуса текстов даст представление о том, по каким правилам строится система тропов у Бродского в целом. Данная глава состоит из двух частей. В первой части, основываясь на стихотворении Бродского «Большая элегия Джону Донну»3 [I: 247–251] 1963 г., мы попытаемся выделить некоторые особенности реализации в нем метафор и метонимий. Во второй части мы рассмотрим, как обнаруженные нами закономерности проявляются в норенском корпусе. II.3.1. Функция тропов в построении картины мира В этом тексте важную роль играет композиционный прием обратной перспективы (см. II.1.) Cпособность повествователя к мультипликации точек зрения отражается на всех уровнях текстовой организации. Начнем с того, что содержание стихотворения, в основном, составляет рефлексия по поводу парадоксальной способности приближаться при удалении. Душа Джона Донна сообщает герою, что поэзия предоставляла ему возможность внеположной точки зрения («Ты птицей был и видел свой народ / повсюду…»), но настоящему отстранению героя от мира препятствует его тело («Но этот груз тебя не пустит ввысь…»). Интересно, что расставание Джона Донна со своей душой описывается с помощью пространственной метафоры: сначала дается пейзаж (непаханные поля, окруженные лесом), затем — образ дровосека, с помощью которого реализуется прием обратной перспективы. Дровосек забирается на дерево и видит знакомый огонь вдали, причем та даль, в которую он смотрит, обозначается как здесь, т. е. место, где находится повествователь — душа Донна; однако пытаясь вернуться сюда, он удаляется, исчезает, становится «<…> лишь сном библейским…». Душа плачет, потому что для не имеет возможности уйти («вернуться суждено мне в эти камни»). Итак, сама попытка взглянуть на мир с высоты становится лишь приближением к нему, вглядыванием в каждую деталь. В стихотворении в целом и особенно в первой его части это реализуется при помощи перечислений. Рассмотрим более внимательно первую часть стихотворения. Мы приводим ее целиком в Приложении (см. в конце работы). Перечисление как нанизывание мотивов в «Большой элегии» можно сравнить с сюжетостроением детского стихотворения о доме, который построил Джек: каждый новый образ связан с предыдущим по смежности, что в сумме дает иллюзию целостной картины мира. Новые образы, являясь в поэтике Бродского, не самодостаточны. Поэт обязательно подыскивает им структурную позицию в своей модели мира. Возникает цепочка: новый образ цепляется за старые, за счет чего общая картина каждый раз переосмысляется. В «Большой элегии» это представлено особенно отчетливо. Попробуем описать собственно технику формирования модели реальности в этом стихотворении. В Приложении приводятся первые 92 строки «Большой элегии» с указанием пространственных ареалов, которые описывает текст. Мы поделили первую часть элегии на отрывки, соответствующие тематическим блокам. Каждый такой блок описывает особое пространство. У нас получилось 6 основных отрывков. В скобках мы указываем номера начальной и конечной строки отрывка. Эти номера условны, так как часто Бродский переходит от описания одного пространства к другому не с красной строки.
Между четвертым и пятым отрывками, а также в конце всей этой части элегии идут небольшие метабазисы. После 4-й:
54 Лишь белый снег летит с ночных небес. 55 Но спят и там, у всех над головою. В 53-й строке подводится промежуточный итог описанию земного мира перед тем, как начать опись мира мистического.
90 Их слуги злые. Их друзья. Их дети. 91 И только снег шуршит во тьме дорог. 92 И больше звуков нет на целом свете. Иными словами, происходит подытоживание всего перечисленного. Создается впечатление, что в начале текста Бродский структурно описывает мир, «раскладывая по полочкам» разные явления. Но при внимательном рассмотрении такая системность нарушается одним обстоятельством. Обращают на себя внимание повторы в перечислениях. Эти повторы как бы связывают один отрывок с другим. Сквозной мотив — мотив снега. Снег выступает как нечто, соединяющее разные миры. Недаром он часто упоминается на границах отрывков (первого и второго, второго и третьего) и является лейтмотивом всей первой части «Большой элегии». Образ снега связывает описание мира природы и мира человека, а также мистического и текстового пространств, тем самым словно подчеркивая родственность и симметричность этих пар. (Как тело человека принадлежит природе, так его душа, объективированная в тексте, принадлежит Богу.) Образ снега, таким образом, осуществляет следующую связь по смежности: мира дома с миром улицы-города (этот пространственный ареал описывается как мир артефактов); потом его связь с миром природы (под кузовом парусника — вода со снегом, которая сливается с небом. Следует заметить, что небо — это область, соединяющая природу с мистическим пространством: «Но спят и там, у всех над головою <выделено нами. — В. С.>». Стихотворение начинается перечислением разных предметов в доме Джона Донна. Попытаемся проследить за взглядом повествователя. То, что мы здесь наблюдаем, можно условно назвать «метонимической композицией». Герой стихотворения — Джон Донн — описывается через его атрибуты (одежда, мебель, личные вещи). Затем по смежности перечисляются снег за окном, соседние дома, город. Повествователь претендует на полное описание пространства. Для повествования свойственна континуальность, когда нельзя описать два явления независимо друг от друга. Любые две вещи (явления) пространственно опосредованны другими предметами, которые также необходимо включить в повествование. Этот прием напоминает гомеровскую ретардацию4, закон хронологической несовместимости, с тем отличием, что в нашем случае речь идет не о времени повествования, а o «нарративном пространстве», характеризующемся признаками «застывшего» времени. Эта континуальность приводит, в частности, к связи мира реального с миром мистическим по признаку смежности:
Лишь белый снег летит с ночных небес. Но спят и там, у всех над головою. Иначе говоря, взгляд повествователя как бы останавливается на падающем снеге, затем поднимается, и, наконец, фокусируется на обитателях небесного, «сакрального» пространства. Такая континуальность характерна для всей первой части «Большой элегии». Уже с самого начала в тексте задается некоторая инерция повтора и возврата (здесь нужно указать на мотив кружения, важный для поэтики Бродского в этот период). Это кружение5 можно сравнить с хождением по лабиринту, когда неизбежен возврат к одному и тому же месту. Но возврат этот имеет одну особенность: тому, кто оказался в этом месте второй раз, оно видится по-другому, и, соответственно, получает новую интерпретацию. Повествование в «Большой элегии» напоминает именно такое хождение: одно и то же явление, упоминаясь в разных контекстах, наполняется новыми смыслами. В результате повторения слова теряют жесткую соотнесенность со своими денотатами и приобретают метафоричность6. Причем повествователь как будто сознательно обнажает этот «прием возвращения» уже в начале текста. Сначала он упоминает уснувшие среди прочей домашней утвари тазы, а спустя несколько строк сообщает, что ночь повсюду, в частности, опять в тазу, тем самым указывая читателю на важность повторов. Повествование начинается с описания весьма ограниченного пространства (дом Донна). Обратим внимание на начало стихотворения: «Джон Донн уснул. Уснуло все вокруг <выделено нами. — В. С.>» Наречие «вокруг» подчеркивает «кружение взгляда» повествователя. Постепенно радиус этого кружения увеличивается7. Чтобы описать модель мира в этом стихотворении, нужно представить себе несколько миров, выстроенных иерархически (мир дома, мир города, мир природы, мир земли, мир небесный, мир текстов). Все эти миры изоморфны, они имеют «кругообразное» строение и пересекаются друг с другом в отдельных точках. В тексте эти точки пересечения обозначены повторами. Явления, названные в тексте как минимум дважды, оказываются связующими звеньями между этими мирами. Постараемся схематически представить эти совпадения в метонимической цепи повествования. Иначе говоря, перечислим повторы мотивов в этой части «Большой элегии». Цифры обозначают отрывок в той нумерации, которую мы указали выше. Число в скобках мы приводим, когда мотив располагается на границе отрывков. Часто та или иная деталь повторяется с некоторыми вариациями, тогда мы через тире указываем эти варианты.
Итак, внутри первого отрывка повторяются: стол (возможно, имеются в виду два стола: кухонный и письменный, на что указывают лежащие на них предметы), таз (причем этот повтор акцентируется повествователем). Происходит синонимический возврат к теме постели: постель, белье, кровать, простыни (затем к образу кровати Бродский вернется в четвертом отрывке: «В кроватях / живые спят в морях <см. море. — В. С.> своих рубах»). Пара башмаки — туфли, строго говоря, повтором не является, но она лишний раз подчеркивает «кружение взгляда» повестователя. Стены, с которых собственно начинаются перечисления в первом отрывке, повторяются во втором (уже не изнутри, а снаружи). Завершается фрагмент упоминанием окна как границы между домом и улицей. При внимательном чтении строчки «Уснуло все. Окно. И снег в окне» можно увидеть, за счет чего в данном случае возникает иллюзия пластичной реальности, непрерывности взгляда. Предлог «в», употребленный вместо ожидаемого «за», демонстрирует включенность «заоконного» пространства в мир дома Донна, а, следовательно, и в число его атрибутов. Когда повествователь описывает границу между домом и улицей, на уровне текста происходит размывание границы между метафорой и метонимией:
Соседней крыши белый скат. Как скатерть ее конек. И весь квартал во сне, разрезанный оконной рамой насмерть [I: 247]. Квартал, сам по себе имеющий форму квадрата, не только напоминает квадратную раму окна, он еще ею разрезан и буквально находится внутри нее. Во многом этот уменьшенный наружный мир подобен пространству внутри первого отрывка. В нем тоже есть окна, двери. Конек крыши похож на скатерть, которая метонимически отсылает нас к образу стола в первом фрагменте (а метафорически — к простыне, покрывалу). Сам же образ конька одновременно связывает этот отрывок с пятым, где говорится о конях в связи с небесным Воинством. В описании города превалируют архитектурные реалии, но и природные элементы здесь упоминаются, особенно ближе к нижней границе отрывка: городские животные (кошки, собаки, мыши), а также люди представляют живую природу, свиные туши в лавке — мертвую. В этом смысле для нас интересно введение образа мыши, который будет снова упомянут в конце третьего отрывка, т. к. в обоих случаях вслед за этим образом повествователь будет говорить о людях. Здесь это метонимическое соседство представлено максимально сжато: Спят мыши, люди. В пятом отрывке «переходность» образа подчеркнута наделением мыши человеческими качествами («<…> мышь идет с повинной…»), метафоричность образа соответственно усилена. Внутри второго отрывка повторяются цепи и цепные псы. Цепь, которая, на наш взгляд, является наиболее удачной метафорой для описания композиционной техники этого стихотворения, еще раз упомянута в шестом отрывке (цепи речей). Стоит отметить и омонимический повтор замкu — зaмки, который лишний раз подчеркивает своеобразное «кружение образов» в тексте. В третьем отрывке внутренних повторов нет. Повествование приобрело размах, это произошло незаметно, но радиус повторов стал больше, чем площадь ареала и соответствующего ему текстового сегмента. Так, здесь происходит возврат к теме постели из первого отрывка — медведь залез в постель. Одновременно здесь медведь уподобляется спящим людям из следующего отрывка. Ни в четвертом, ни в пятом, ни в последнем, шестом отрывке мы внутренних повторов тоже не найдем. Однако чем ближе к концу, тем сильнее текст строится на лексических и смысловых отсылках к предыдущим и последующим отрывкам. В четвертом это моря рубах, в которых спят люди (ср. море в третьем); кровати, в которых они спят; люди спят в обнимку, как херувимы в пятом (стихи в шестом спят бок о бок8). В пятом отрывке мы встречаем коней (ср. конек крыши во втором); своды, которые во второй части упоминались как архитектурная деталь, здесь превращаются в свод церкви Павла — налицо двусмысленность: херувимы могут быть просто изображениями херувимов под сводом собора, и — «реальными» херувимами под метафорическим сводом вселенской первоапостольской Церкви. В шестом отрывке мы встретим ямбов строгий свод, где двусмысленность заложена в самом слове свод. Упомянутый в пятом отрывке рай повторен в шестом в виде райских врат, от которых далеки стихи. В шестом отрывке кроме уже упомянутых нами повторов есть речи из первого (здесь — цепи речей); вода под парусником на границе второго и третьего отрывков превращается в летейские воды; ручьи и реки из третьего превращаются в реки слов. Характерно, что метафоричность к концу первой части «Большой элегии» повышается. Вначале слова выступают только в качестве знаков конкретных вещей (не считая того факта, что они одновременно являются атрибутами героя стихотворения; заодно исключим из поля зрения спящие вещи, что является сквозной метафорой всей первой части стихотворения). Первое сравнение употребляется на границе начального и второго отрывков (конек крыши, как скатерть). Постепенно метафоричность речи усиливается. Можно предположить, что Бродский приходит к метафоре через метонимию. Собственно метафора появляется только во втором отрывке и то не в чистом виде, как мы видели (квартал, разрезанный оконной рамой насмерть). В третьем фрагменте имеется уже три метафоры: залез медведь в постель; мышь идет с повинной и совиный смех. В коротком четвертом отрывке лишь одна метафора (моря рубах), а в пятом — нет ни одной (кроме общей метафоры сна и строчки никто не выйдет в этот час из дому — поскольку дом в метафизическом пространстве может вообще считаться метафорой). Кроме того, как мы уже говорили, существует определенная двусмысленность в строках «И херувимы все — одной толпой, / обнявшись спят под сводом церкви Павла». В шестом отрывке видим сразу семь метафор: порок, тоска, грехи… лежат в своих силлабах; стихи шепчут друг другу; ямбов строгий свод; толпы книг; реки слов; лед забвенья; цепи речей. Большинство метафор этого отрывка совпадает с повторами, что еще раз наглядно демонстрирует «кружение повествования». Одновременно ближе к концу стихотворения метонимическая связь между образами становится все более условной, а сами перечисляемые реалии — все более абстрактными. И чем менее очевиден предмет, о котором в данный момент говорит автор, тем сильнее его метафорическое обоснование. При этом повествователь сильнее подчеркивает неочевидную связь явлений по смежности с помощью языковых средств. Попытаемся теперь в общих чертах охватить всю картину реальности, представленную нам в тексте. Для этого проследим, как движется взгляд повествователя: дом Джона Донна — окно — снег — улица — город — порт, парусник (граница культурного и натурального пространства) — вода со снегом — море — берег — природа, горы, животные — мышь — люди (мертвые, потом живые, т. е. кладбища на окраине, потом снова город, деревни) — снег с небес — взгляд вверх — ангелы, святые — геенна (взгляд вниз?) — рай (взгляд вверх?) — дьявол и вражда — английское поле9, поле (в том числе как поле боя — Армагеддон) — всадники — архангел с трубой — кони — изображения херувимов под сводом церкви Павла (снова город, а также пространство внутри дома-церкви) — Джон Донн — стихи — порок, тоска, грехи в этих стихах — ямбов строгий свод — слева, справа — хореи, — в них — виденье летейских вод — за ним — слава — беды и страданья в стихах — снег (белизна) и черных пятен малость (буквы) — толпы книг, реки слов, цепи речей. Таким образом, мы можем говорить об определенной симметрии композиции первой части «Большой элегии». Сначала план повествования обобщается (дом Джона Донна, улица, город, страна), затем взгляд направляется вверх, к небу. Связующим звеном между земным и небесным является падающий снег. Потом взгляд повествователя возвращается вниз, к герою стихотворения. На этот раз роль посредника играет свод церкви. Когда рассказ возвращается к исходной точке, начинается укрупнение плана. В начале «Большой элегии» собственно Джон Донн и его стихи рассматриваются вскользь и только в качестве материальных объектов:
среди бумаг, в столе, в готовой речи, ее словах, в дровах, в щипцах, в угле В шестом отрывке мир текстов Донна изображается как микромир, изоморфный реальности. Пространственно граница между этими мирами проходит по дому Донна, а именно по письменному столу. И эта изоморфность закрепляется повторами в метафорическом ряду:
Таким образом, в шестом отрывке метонимическая цепь суммирует образы всех предыдущих фрагментов, при этом наполняя их новым смыслом, и выводя их на новый уровень интерпретации. Интересно, что когда говорится о мире текстовом, то смежность явлений сознательно подчеркивается, в первую очередь, при помощи предлогов: в [стихах], за ними, слева, справа и т. п. Мир текстовый, буквально внутри которого находится содержание, подобен миру реальному, потому что он — по соседству с ним. С одной стороны, он способен к репрезентации внетекстовой реальности, с другой — является его частью. На примере этого стихотворения отчетливо и наглядно видно, как Бродский синтагматически изображает нам парадигматическое строение мира. Весь мир, его реальный, метафизический и другие уровни изображаются как части единой синтагмы, которая хоть и является единой, тем не менее, членится на сегменты. Текстовые синтагмы не только являются ее подобием, но и ее органической частью, ее продолжением, так же как отношения изоморфности и смежности реализуются между стихами в любом стихотворном тексте. Кроме того, в этом тексте происходит нивелирование лирического героя. Это одна из важных для Бродского тенденций в 60-е годы. Во-первых, образ автора здесь неочевиден. Изложение намеренно неэмоционально, экспрессия появляется только в прямой речи от лица души героя. Для этого текста характерна такая особенность как «антилиризм». Джон Донн, находящийся в центре повествования, уже не существует, и одновременно весь мир, который описывается — это его мир, являющийся его частью (описание мира строится как описание самого героя). Происходит растворение героя в окружающем его тело макро- и микропространстве. Первая часть «Большой элегии» — это ключ к пониманию всего текста. Здесь не столько демонстрируется картина мира, сколько предлагается технический принцип ее создания, что позволяет затем правильно истолковать, например, дальнейшее сравнение души Донна с дровосеком, забирающимся на дерево10. Образ дровосека — это попытка пространственно изобразить метафизические искания души героя. Конь приносит его на заброшенное поле (см. английские — ангельские — поля), забираясь на сосну, дровосек видит, что его родной мир находится вдали и дальше его путь становится безадресным (к лесам). И в этот момент он теряет плоть, становится сном библейским. Интересно, что похожая метаморфоза с человеком, взбирающимся на дерево, представлена в стихотворении 1964 г. «Орфей и Артемида». Там лирический герой, взбираясь на сосну (sic!), во-первых, мифологизируется (новый Орфей), а во-вторых, попадает в пространство текста («В скобки берет зима / жизнь…»). Это усиливается и устойчивой у Бродского метафорой заснеженное пространство — лист бумаги. В результате граница между миром и языком размывается (словарь vs бестиарий). Так же и душа мертвого Джона Донна, оставляя тело, взлетает ввысь, туда,
да ленты рек, и где, при взгляде вниз, сей страшный суд совсем не страшен. И климат там недвижен, в той стране. Откуда всë, как сон больной в истоме. Господь оттуда — только свет в окне туманной ночью в самом дальнем доме. Мертвое тело не может поспеть за душой. Интересно, что в этой бессмысленной погоне ему бы пришлось плыть, «чтоб сшить своею плотью, сшить разлуку». Вспомним, что подобное «сшивание» земного и небесного по воде мы наблюдали уже в первой части, на границе второго и третьего отрезков (парусник, вода под ним, снег, небеса). Траектория возносящейся души повторяет направление взгляда повествователя. II.3.2. Метафоры и метонимии в норенском корпусе Подобная метафорическая техника используется Бродским и в стихотворениях, написанных в ссылке. Конечно, она не будет с точностью повторяться, и говоря о норенском корпусе, нельзя утверждать, что картина мира «Большой элегии Джону Донну» будет актуальна и для других стихотворений. Однако тесная связь метафоры и метонимии, а порой и подмена одного другим с 1964 г. в связи с сюжетом растворения лирического героя в пейзаже и «ремифологизацией» мышления повествователя становится важной чертой поэтики Бродского. Для «Большой элегии» особую актуальность имеет мотив соотношения макро- и микромиров, который проявляется также на метапоэтическом уровне. Эта же проблематика затрагивается и в стихотворении «Стекло» (ок. 1963 г.) [I: 297]. Герой спускается здесь по лестнице в темноту. Такая же лестница в уменьшенном виде находится внутри него самого. Душа сопоставляется с огнем, который скрывается внутри полупрозрачной плоти. Выпуклость груди скрывает, кто увеличил, кто кого уменьшил — она похожа на линзу, и окружающее поэта пространство представляет собой скорее проекцию пространства внутреннего. Это «двоемирие», строящееся по принципу изоморфизма, реализуется и на уровне композиции: автор расподобляет повествователя и лирического героя, заставляя их вступать друг с другом в диалог. В главе II.1. мы на примере стихотворений «1 января 1965 года» и «Новый год на Канатчиковой даче» показали, как невозможность для повествователя дать общий план влечет за собой интроспекцию лирического героя. Эта техника применяется и при построении данного текста. В качестве одного из важнейших мотивов «Большой элегии» мы выделили тождество объективной реальности и мира текстов, которое реализуется также на уровне автометаописания. Такое неразличение мира и текста характеризует стихотворение «Воронья песня» 1964 г. [I: 303]. Претекстом для него послужила крыловская басня. Лирический герой надевает маску вороны, выронившей сыр, но поймавшей чернильного червяка. Червяк — это буквы на листе бумаги, которые превращаются в песню, оглашающую рощи. Таким образом, в стихотворении сталкиваются три разных мира, между которыми устанавливаются сложные связи по признаку подобия/смежности: реальная жизнь поэта, мир природы и мир текста. В стихотворении «Рождество 1963» [I: 314] интересен мотив кружащегося снега. Как мы помним, в «Большой элегии» падающий снег был связующим звеном между землей и небом. Причем для повествования было характерно мифологическое представление о небе как сакральном пространстве. Подобно «Большой элегии», в стихотворении «Рождество 1963» движению взгляда повествователя то вверх, к небу, то вниз, к земле, сопутствует упоминание падающего снега, создающее особую образность текста, основанную на неразличении метафорического и метонимического механизмов. Общая композиция этих текстов, описывающая спящего героя как центр мироздания, также сближает их друг с другом. В обоих стихотворениях мир описывается как абсолютно неподвижное явление, подобно фотографии. В связи с этим образы, наделенные характеристиками движения, в обоих текстах приобретают особую значимость. В «Рождестве 1963» динамичные образы снега, огня и ветра как явлений природы противопоставляются статичным образам мира культурного, человеческого: волхвов (которые уже пришли), младенца, крутых сводов, даров. Отметим также, что особую важность для стихотворения приобретает мотив кругового движения, сочетающийся с «кружением взгляда» повествователя на композиционном уровне. «Пришла зима, и все, кто мог лететь…» [I: 398–408] — самое большое стихотворение, написанное Бродским в ссылке (431 стих). Оно в два с лишним раза длиннее «Большой элегии» и сопоставимо с такими ранними текстами, как «Зофья» и «Исаак и Авраам». В этом стихотворении Бродский пытался реализовать поэтическую технику этих трех текстов, словно закрепляя поэтику того своеобразного жанра «большого стихотворения». На примере этого произведения можно наблюдать весьма своеобразную реализацию сюжета растворения в пейзаже:
но в данный миг пред ним лишь горстка пепла. А в нем пейзаж (не так ли жизнь в былом) — полесский край, опушка в копнах сена, изгиб реки… Сюжет представляет собой последовательное переосмысление отношений между элементами, из которых состоит мир. В результате в тексте разворачивается своеобразная «ремифологизация» на разных его уровнях. В качестве центральных признаков такой «ремифологизации» следует назвать синкретизм сознания и неразличение структурообразующих картины мира оппозиций. Причем эти признаки характерны как для лирического героя, так и для повествователя и для самого автора. Лирический герой перестает различать природное и культурное, линейное и цикличное, земное и небесное, начало и конец. Повествователь перестает различать субъект и объект, лирического героя и окружающее его пространство, реальный мир и пространство текстов, свое и чужое слово. Особенно интересны случаи, касающиеся последних двух оппозиций, когда повествователь наводняет текст цитатами из других авторов, внедряя их в контекст собственных устойчивых образов. Вот как изображается зимний пейзаж в предпоследней «гиперстрофе»11:
Труба дымит. Лиса скользит с холма. Овца дрожит. Никто не жнет, не косит. Никто не жнет. Лишь мальчик, сжав снежок, стащив треух, ползет на приступ скрытно. Ура, сугроб! и ядра мечет в бок. Ура, копна! хотя косцов не видно [I: 407]. Как видно из этого отрывка, сложная игра цитатами из Пастернака (норд-ост), Крылова (лиса) и Пушкина сопрягается с привлечением образов из поэзии самого Бродского. Символизация (или концептуализация) пейзажа происходит, таким образом, и на металитературном уровне. Вспомним в связи с этим строчку «пускай воззрится дрозд щеглиным взглядом». С помощью двух образов — дрозда, позаимствованного из поэзии Пастернака, и мандельштамовского щегла, Бродский дает автометаописание собственной поэтической стратегии. В свою очередь, автор перестает различать жанр, границу текста (отсюда отсутствие эксплицированной композиции текста, сюжетных элементов), пытается в один текст инкорпорировать все характерные для его поэзии признаки. В «Большой элегии Джону Донну» образы объединялись друг с другом то по смежности, то на основании подобия, в результате чего получилась единая образная цепочка. В стихотворении «Пришла зима, и все, кто мог лететь…» такое сцепление образов достигается более сложным образом. Бродский вырывает отдельные детали явлений, чтобы показать их как часть более общего целого, в котором эти части смешались. Все стихотворение отдаленно напоминает первую часть «Большой элегии» в стремлении дать полное описание окружающего пространства. В результате возникает картина мира, в которой все становится взаимосвязанным — цивилизация, природа и человек. В последней части стихотворения этот «разобранный мир» соединяется в случайных связях и трансформациях: чугунный брус прижался к желтым стульям, буфер поезда готов воткнуться в буфет дома. Причем связь между явлениями происходит на самых разных основаниях: по смежности, по сходству, по сходству звучания названий. Предметы могут меняться друг с другом свойствами: прожектор бьет в затылок; вино бежит, ночь, звезды льются, щель дрожит и хлебает, печь плывет, мускат шипит, торец глядит, чугунный брус прижался, рельс сплелся с кулисой, трава ослепла, былое спит, труба глядит вверх, луна ведет подсчет убыткам ОРСа. Композиционно структуру стихотворения можно описать как трехчастную: 1) опьянение природы зимой — движение — все улетает, выпадает снег, все успокаивается; 2) введение лирического героя — приближение поезда — распитие вина — опьянение — поезд врывается в изображаемое пространство; 3) успокоение — отстраненная рефлексия над окружающим — изображение зимнего пейзажа — растворение героя в пейзаже. Повествование представляет собой своеобразный «анализ»: от явлений отчуждаются их свойства и функции. Затем они перемешиваются и ими наделяются другие явления, часто не имеющие к ним отношения. Затем вырисовывается общая картина этого видоизмененного мира. Так изображение смены времени года превращается в метаописание трансформации мира и лирического героя (соответственно текста и автора как его неотъемлемой части) на всех уровнях. Любопытно, как в этом тексте происходит «обнажение конструктивного приема». Вот как описывает повествователь метонимическую природу своих метафор: «пускай предстанет дятел вдруг таким, / каким был тот, кто вечно был с ним рядом». Отношения смежности вообще являются структурно важными для поэтики стихотворения:
подумаешь, тем точно станешь после, — предметом, тенью, тем, что возле них, птенцом, гнездом, листвою, тем, что подле. При смерти нить способна стать иглой, при смерти сил — мечта — желаньем страстным, холмы — цветком, цветок — простой пчелой, пчела — травой, трава — опять пространством [I: 400]. «Миметизм» Бродского в данном случае становится все больше похож на мимикрию. Прагматика текста — сделать сам текст органичной частью той картины мира, которая в нем моделируется, и как следствие — ввести в этот мир вслед за лирическим героем и самого автора текста. К повествовательной технике «Большой элегии Джону Донну» близко также стихотворение «Менуэт (Набросок)» [I: 418]. Замкнутый мир избы здесь изоморфен миру культуры. Пространство письменного стола изображается как городской (культурный) пейзаж (на фоне фейерверка мимозы — колонны «элегий, свернутых в рулоны»). Повествователь представляет неделю как диаграмматический знак всей жизни героя, в связи с чем наступление четверга прочитывается как приход старости12. В свою очередь, старость сопоставляется с закатом культуры (изображение рулонов стихов как колонн, рассыпанных по столу). Прошлое находится слева от лирического героя, будущее справа («И в ошую уже видней / не более, чем в одесную дней»). Течение жизни, изображенное с помощью традиционной метафоры жизнь — река, в свою очередь, само описывает процесс письма, которое, подобно жизни, имеет направленное движение слева направо. Таким образом, приход старости описывается как ремифологизация сознания лирического героя и повествователя, для которого свойственно неразличение пространства и времени («холодный март овладевает лесом…»), одушевленного и неодушевленного («свеча на стены смотрит с интересом…»), тождества и смежности («<…> табурет сливается с постелью…»), внешнего и внутреннего («<…> город выколот из глаз метелью…»). К «Большой элегии Джону Донну» отсылает также стихотворение «Мужчина, засыпающий один…» 1965 г. [I: 441–444]. Особенно интересна его четвертая часть, в которой описывается, как лирический герой забирается на дерево (вспомним образ дровосека из «Большой элегии»). При этом образ дерева здесь мифологизируется: перед нами своеобразное arbor mundi, оно является структурной основой картины мира. С помощью этого образа повествователь изображает любовное чувство как явление, имеющее пространственные характеристики. Герой, сидящий на дереве, оказывается низшей ступенью «иерархии любви». Над ним — ревность, над ней — нежность, выше — страсть, «что смотрит с высоты / бескрайней…». Еще выше — боль и ожиданье. Повествователь «венчает иерархию любви / блестящей пирамидою Брегета», т. е. время оказывается вершиной этой конструкции. Собственно, эта лестница из семи ступеней служит эмблематическим изображением расставания души и плоти лирического героя, освобождения души от земных страстей (еще один мотив, сближающий этот текст с «Большой элегией»)13. Сближает эти стихотворения и мотив сна-смерти, которым завершается повествование в одном случае («Но на этот раз / он не захочет просыпаться») и с которого рассказ начинается — в другом («Джон Донн уснул…»). Параллельно с мотивом смерти героя в стихотворении «Мужчина, засыпающий один…» реализуется сюжет растворения в пейзаже, когда герой
невидимому лесу, бегу дороги, предает во власть Пространства [I: 443]. В заключение отметим, что подобная техника метафорического переосмысления отношений смежности будет применена Бродским и в других стихотворениях. Проявляется она, в частности, в «Полевой эклоге», рассмотренной нами выше. Представлением о «пластичности пространства» характеризуется также стихотворение «Исаак и Авраам». Техника эта будет сильно видоизменяться в последующем творчестве, что должно стать предметом отдельного исследования. Картина мира, представленная в стихотворениях Бродского, не соответствует обыденным представлениям. Ее особенность заключается в иллюзорности и часто двусмысленности границы между разными пространствами. Однако именно эта двусмысленность придает метафоре Бродского своеобразие. 1 В случае Бродского, как мы увидим дальше, этот термин нужно использовать с осторожностью. Ставшее традиционным разделение метафоры и метонимии [Якобсон] не всегда будет у него очевидным. Для Бродского характерно сложное комбинирование тропов разной природы, что создает трудности для исследователей (см. в связи с этим, напр., «Словарь тропов Бродского» [Полухина, Пярли], составители которого пытались привести в систему достаточно непростой материал). 2 В первую очередь, мы здесь имеем в виду работу [Лотман, Лотман]. Отчасти в этом аспекте поэтика Бродского рассматривается также в работе: [Лотман М. 1990]. 3 Традицию изучения этого текста заложил сам Бродский в своем интервью, данном И. Померанцеву (см.: [Померанцев]). Часто поэтика стихотворения рассматривается в связи с поэтикой Донна, что естественно. В диссертации В. Куллэ [Куллэ 1996] заслуживает внимания исследование аспектной композиции. Интересным представляется исследование сквозных метафор «Большой элегии» в работе А. Нестерова [Нестеров]. Проблема взаимосвязей поэзии Бродского с творчеством поэтов-метафизиков активно изучается. См., напр.: [Иванов 1988], [Иванов 1997], [Шайтанов], [Bethea], [MacFadyen], [Ниеро]. 4 См. об этом, напр.: [Ауэрбах]. 5 См. о том, как этот мотив используется поэтами-метафизиками в: [Шайтанов: 28]. 6 См. об этом также: [Полухина 1998]. 7 Ср. с рассуждениями самого Бродского о «концентрических кругах» в стихотворении [Бродский 1995: 14–15]. 8 В связи с этим образом стихов, спящих в тесноте, вспоминается тыняновское понятие «единства и тесноты стихового ряда», когда семантика с одного слова в стихе переносится на другое, в результате чего возникают смысловые наложения, то, что Тынянов называет «колеблющимися признаками значения», или «видимостью значения» [Тынянов 1924: 87]. Мы с большой долей вероятности можем предположить, что Бродский был знаком если не с данной работой Тынянова, то с самой идеей «единства и тесноты». Мысль о смысловом отождествлении единиц языка, обусловленном их пространственным соседством очень созвучна художественной технике всего стихотворения. То, как «теснота стихового ряда» реализуется Бродским при описании места действия (на примере рождественских стихотворений), подробно рассматривает в своей книге М. Ямпольский [Ямпольский: 222]. 9 Отметим возможный ассонанс ангел/Англия, ангельский/английский. 10 Мотивы залезания на дерево, спуска в колодец (взаимосвязанные друг с другом) также присутствуют в стихотворениях «Садовник в ватнике, как дрозд…» 1964 г. и «Полевой эклоге» (ок. 1963 г.).
11 Подробнее об этом термине см.: [Лотман М. 1995]. 12 См. также мотив четверга в связи с наступающей осенью в «Новых стансах к Августе» [I: 386]. 13 Образ лестницы в связи с темой «судьбы поэта» вообще является мифогенным у Бродского. См., напр., цитату из письма поэта Р. Дериевой: «Существует точка — буквально: зрения, — с которой то, как складывается у человека жизнь (счастливо или кошмарно — не так уж много у жизни вариантов) — совершенно безразлично. Точка эта находится над жизнью, над литературой и достигается с помощью лесенки, у которой порой всего лишь шестнадцать (как в Вашем “Мне не там хорошо, где я есть”) ступенек… И чем ближе человек к этой точке, тем больший он — или она — поэт… Вы до этой точки — над жизнью, над собой — добрались; радость от чтения поэтому еще и душераздирающа» (цит. по: [Ефимов: 18]).
* Вадим Семенов. Иосиф Бродский в северной ссылке: Поэтика автобиографизма. Тарту, 2004. © Вадим Семенов, 2004. |