| начальная | personalia | портфель | архив | ресурсы | о журнале |
Жан-Франсуа Лиотар
Эмма
1. Четыре Ничто
Excitatio, от citare, фреквентатива от ciere или cire, приводить в движение, вызывать, и от ex‑, заставляя выйти (excitare somno, разбудить, вывести из сна). В латинском языке семантическое поле этого слова носит ярко выраженный юридический характер: вызывают в суд. Вызываемого в суд заставляют выйти из его частной темноты, выставляя его на свет права. А там, за правом, кроется охота, даже псовая охота: притаившееся животное поднимают и преследуют в чистом, человеческом, финализованном поле преследования. (Я обращаюсь здесь к происхождению терминов римского права, обозначающих “натуральное владение”, которые Ян Томас[1] выводит из захвата, ловли.) Тот принцип, в соответствии с которым возбуждение активизирует некое специфичное, дремавшее, невидимое поле, сохраняется и в современной науке об электричестве: магнитное поле возбуждается, когда помещается под напряжение (благодаря так называемому возбуждающему току) катушки индуктивности электромагнита. Именно осененное этим магнетизмом, признанным физической наукой, это слово выходит из-под пера того читателя Фехнера, которым был Фрейд, когда в 1895 году набрасывал свой Очерк. В возбуждении/вызывании, разумеется, есть момент принуждения. Принуждения, или, выражаясь аристотелевски, действительности по отношению к способности. Нужно, чтобы вызванный в суд объект был вызывабелен-возбудим. В этом случае принуждение и применяется. Здесь, по-видимому, мы сталкиваемся с чистой тавтологией события: оно случается. Однако потом, постфактум, мы скажем, что оно случается лишь постольку, поскольку случай встречается с потенциальным полем, которое он актуализирует. Или, по крайней мере, что потенциальное поле, которое он возбуждает, придаёт ему свой quid. Событие лишь случается, но то, что случается, определяется полем возбудимости. Следовательно, случай, он тоже не какой угодно. У него есть своя предпосылка, способность или возбудимость по отношению к праву, охоте, магнетизму. Постфактум обнаруживается предрасположенность. Nachträglichkeit отсылает через латентность к Vorzeitigkeit[2].
Фрейд подчеркивает, например, в Я и Оно, насколько философы не способны понять “мысль о психическом явлении, которое не было бы в полной мере сознательным”. Эта неспособность или непонятливость вытекает “из того, что они никогда не занимались изучением важных феноменов гипноза и сна”[3]. Kак у философов у них нет никакой клинической практики. Если бы она была, то они не замкнулись бы в цитадели сознания и философии сознания. Философия сопротивляется психоанализу. Она забралась в сети очевидной истины, которая гарантирует ей прозрачную жизнь. Анализ вызывает её в трибунал неясности, которая сопротивляется пониманию и разуму, в трибунал необоснованной и непрекращающейся тревоги, неизлечимой никаким философским утешением-consolatio (6). Однако этот страх, этот противоречивый аффект, страдание и наслаждение, страдание, вызываемое наслаждением, является, пожалуй, основной движущей силой философии, её excitatio, рекуррентной причиной акта философствования. Философия знает эту тревогу и называет её по-своему: абсолютный скептицизм, нигилизм, taedium vitae spiritus, desperatio cogitandi. Поле философской возбудимости зиждется на четырёх углах Ничто. Кант перечисляет их так: ens rationis, пустое понятие без предмета; nihil privativum, пустой предмет понятия; ens imaginarium, пустое созерцание без предмета; и четвёртое, ужасное, пустой предмет без понятия, nihil negativum, Unding, невещь[4].
Согласно Лакану, перечитывающему Фрейда, эта невещь, круглый ноль предмета и понятия, называется собственно Вещь, la Chose. На этом расхождении по поводу того, как назвать то, что их занимает, и основывается раздор между философами и аналитиками. По мнению вторых, бессознательное игнорирует отрицание, nihil negativum; отрицание у первых является способом игнорирования бессознательного, т. е. ens rationis или nihil privativum. Причем настолько, что любой философ как таковой не может вмешаться во фрейдовские дела, не исправив их, не изменив негативность, т. е. не исказив их. Я не описываю здесь разного рода изменений, которым сознание философа может подвергнуть и подвергло тезис о бессознательном (юнгианство лишь один тому пример). Мотив возбуждения, если ограничиться только им, вызывает у философа недоверие к динамической и экономической метафоре, этот мотив поддерживающий, а затем и сомнение в легитимности метапсихологии как таковой. Если философ и не превращает её в простой риторический оборот, то он склонен, по крайней мере, освободить её от той “трансцендентальной кажимости”, которую он в ней видит, и от метафизической иллюзии. Он пытается заставить эту общую физику духа принять унизительные условия Критики. Он рассматривает априорные условия возможности “бессознательного суждения”. Закон этого суждения будет при этом примерно таким: всегда поступай так, как если бы максима твоей воли (желание) не была ни известной, ни разделённой никем, даже самим тобой. И тут же эта пародия ему кажется несостоятельной: каким образом тот ты, к которому должен обращаться закон, будет знать об объекте этого предписания, если он должен ничего не знать о мотиве и не разделять мотива своего действия?
Однако эта несостоятельность, одновременность адресуемой сущности (адресат, ты) и неадресуемой сущности (вне всякого назначения, оно?) несомненно является тем, о чём философ как раз должен упрямо продолжать мыслить, если он хочет воздать должное и психоанализу, и своей собственной меланхолии, а не просто избавиться от них. Раз он пытается провести критику априорных условий тезиса о бессознательном, ему тут же приходится допустить трансцендентальную состоятельность несостоятельности первичных процессов. Его разум должен сделать разум способным мыслить неразум, если он полагает, что больше не закрывает глаза на бессознательное. Ставка здесь того же порядка, что у Хайдеггера в Der Satz vom Grund, но игра куда серьёзней (и должна избежать всем известных недостойных последствий), если правилом станет, что недостаточно отождествлять это “неразумие” с Dichtung (которое повсеместно приравнивается к тому, что я называю здесь метафорой) как с единственным подходом (или скорее единственной возможностью) по сю сторону рационального. Это та же проблема, которую психоаналитики знают в форме: миф происхождения/происхождение мифа, или: происхождение фантазма/фантазм происхождения; или та же, которую они решают, de facto, используя литературу как свидетеля посюсторонности. Я претендую здесь по-философски на то, чтобы, скажем так, вразумительно артикулировать по поводу посюсторонности артикулируемого, т. е. по поводу того Nihil, которое в том числе и вызывает/возбуждает саму эту претензию.
Именно в рамках этого спора и находится всё то, что последует. Я говорю здесь как философ, безо всякой (клинической) компетентности в этой области, в области возбуждения, но с (философской) настойчивостью в желании “исправить” кое-что из фрейдовского урока. Когда-то, каких-нибудь пятнадцать лет назад, я старался, наоборот, утопить тезис о бессознательном в потопе общей либидозной экономии. Это была чистая метафизика и потому пародийная и в высшей степени нигилистическая, под видом веселья и утвердительности и эгидой Ницше. На это я пошёл буквально “импульсивно”. В связи с возбуждением я хотел бы заново приняться за посюсторонность, но другим, критическим, путём, однако, вовсе не кантианским. Мне представляется доказанным, что кантовское мышление остается зависимым от допущений и неосознанных предпосылок (наверняка от того, и от другого), всё ещё слишком сильно связанных с субъективистским мышлением, т. е. с философией сознания. У позднего Витгенштейна поражает, по поводу предмета, который нас здесь интересует, его частое замечание, что не нужно знать правил языковой игры, чтобы уметь в неё или ей играть. Но беспокоит также и то, что само выражение “языковые игры” не определяет ясно, говорящие ли играют на языке или язык играет на говорящем (как играют на фортепиано). Сам я вынужден был прийти к тому, что в Le Différend предстаёт (скорее, чем концептуализируется) под именем фразы. Фраза сопротивляется сомнению, а значит, нигилизму и меланхолии, намного лучше, чем какое-то неопределённое Cogito, потому что даже если поставишь под сомнение, что существует или не существует некая фраза, так нужно ещё оформить во фразу и это недоверие. Тем самым я допускал, что молчание может быть фразой. Как и ляпсус, неудачное действие и т. п. И аффект.
С этой стороны я и чувствую себя в состоянии подойти (как философ) к области психоаналитика, поскольку он имеет дело только с фразами и неизбежно разделяет эту уверенность. Talking cure — это лечение фразами, пусть и ценой расширения смысла talk до смысла фразы. Я могу предположить — в той мере, в какой меня на то наводит (или я соглашаюсь с тем, что она наводит) посюсторонность, гостем и заложником которой я являюсь, — что тот род фраз, который в этом talking проводит лечение, и есть аффект, или чувство, как его раньше называли. Это тот весьма странный род фраз, который Фрейд отделил от тех, которые он отнес к разряду общей функции Repräsentanz. Для начала я назову фразы, функционирующие в режиме Vorstellungsrepräsentanz, делегирования по представлению, референтными, в той мере, в какой они суть представления: они отсылают к объекту, “вещи” или слову, который есть то, о чём они “говорят”. И удельный вес иллюзии и истины во фразах разыгрывается относительно этого объекта (который является их грамматическим субъектом/подлежащим), т. е. представляемого. Ибо считается, что он находится здесь вместо другого, что он делегирован. Этот удельный вес иллюзии и истины вырисовывается по мере того, как в текстуре ассоциаций выступает другой (или другие) того объекта, который был выставлен вначале. Движение от одного звена ассоциативной цепочки к другому, бесспорно, бесконечно. Фразируемый объект на диване, я полагаю, делегирован не одним другим, но многими. Истина не вставлена в ассоциативную цепочку, она и есть сама эта цепочка, т. е. различение.
Таким образом, следовало бы тщательно различить два измерения замены. Но я на этом останавливаться не буду, раз мы привлечены (возбуждены) вопросом о возбуждении. Только совсем коротко: представители-представления (будь то посредством “вещей” или слов) суть заменители в силу того, что они представляют энергию влечения, инвестированную, или контринвестированную, или нейтрализованную, в фигуру или дискурс. И в то же время при случае они бывают заменителями одни других в том соскальзывании одних в другие, от которого у философского рассудка случается головокружение. Этот второй смысл покрывает и смещение, и сгущение. Первый же (куда нужно было бы включить, как мне кажется, способность к фигуративности) совершенно другого порядка: говоря абсолютно, фраза “вещная” или словесная всегда является субститутивной, в той мере, в какой она заступает на место “воздействия” [motion]. Это не одна вещь вместо другой, не одно слово вместо другого; это (неважно, вещь или слово) — элемент артикулированной речи (даже если она артикулирована странно, как в ребусе сновидения), фраза, которая выставляет себя на место “инвестиции” влечения. Эта инвестиция не должна ни соблюдать, ни нарушать правил этой речи, но быть ей настолько чуждой, чтобы было на первый взгляд невозможно говорить о переводе динамического в вербальное. Воздействие делегирует одного или нескольких преставителей (des représentants, Repräsentanz) в порядок, в речь, которая предполагает референцию (référence, Vorstellung). Почему безотчётно-побудительное [le pulsionnel] не может занимать своего места, а должно делегироваться в одну или несколько фраз артикулированной речи? Разумеется, потому, что у него нет места, определимого самого по себе. Чтобы разместить безотчётно-побудительное, нужно о нём говорить, само оно не разговаривает.
2. Фразы
Вопрос состоит в первоначальном вытеснении. Именно о нём здесь пойдёт речь, в той мере, в какой оно управляет фактом возбуждения. Метапсихологическая гипотеза, экономическая и динамическая метафора (пожалуй, также и топическая), которую я назову метафорой физической, означает, что бессознательное действует как аппарат, подчинённый законам, но не артикулированной речи, а механики: силы, столкновения сил, состав сил, физический момент (момент приложения силы), преобразование потенциальной энергии в кинетическую (разрядка через “специфическое действие”), а следовательно, работа (сновидения, скорби, вытеснения) как затрата необходимой энергии на эти механические действия, полезной энергии в системе дифференцированной (связанной) или свободной, подвижной (резервуар, откуда вышеназванная система черпает пополнение, нужное, чтобы избежать энтропии). В общем, количество — единственная категория, подходящая к этой механике. Оно объясняет и термины: аффективный квант, обращение в противоположность, возвращение к собственно личности, которые все указывают на то, что качество аффекта (логически говоря, качество — это да или нет; здесь же — поскольку речь идёт о чувстве — удовольствие или боль), его назначение или его “адрес” (ты, я) к делу не относятся, если говорить о физике сил. Надо бы исследовать, не является ли это количество, взятое как “предмет” общей физики духа, тем, что Кант называл пустым понятием без предмета, а пространство‑время, в котором оно работает, — пустым созерцанием без предмета.
Правила, как Фрейд себе их представляет для этой механики, могли и измениться между 1895-м и 1920-м годами. В этом смысле По ту сторону принципа удовольствия вводит этими двумя принципами не просто иную механику, но биомеханику, в которой, при том, что система сил (в 1895 г. Фрейд называет её “психическим аппаратом”) в конечном счёте подчинена по-прежнему второму принципу термодинамики, остается однако неопределённым, приводится ли она самым быстрым способом в наиболее вероятное состояние, которое есть абсолютный ноль возбуждения (смерть), что происходит, в принципе, с любой энергетически изолированной системой, или она задерживается в этом движении, ибо располагает способностью черпать оставшуюся свободной энергию в себе самой или в другом месте, чтобы восстановить термическую полярность своих источников (своё внутреннее дифференцирование). Т. е. в силу того, что она обладает, следовательно, запасом полезной энергии. И даже в этом случае, случае демона Максвелла, теорема Брийуэна показывает, что смерть системы в конце концов неизбежна, так как селектор потребляет слишком много энергии на свою работу по поддержанию маловероятной дифференциации. Фрейд приписывает Эросу эту селективную и дифференцирующую способность. Правда, с Эросом регулировка (временная, а точнее, по времени совпадающая со сроком жизни) системы производится не на нуле, а на оптимуме соотношения input (возбуждение)/output (любое удовольствие от разрядки), оптимуме, определяемом состоянием дифференциирования.
Я напоминаю эти хорошо известные элементы физической метафоры только для того, чтобы подчеркнуть, что если бессознательное структурировано, то не как речь[5], или, скорее, эта речь не является артикулированной. Под артикуляцией я понимаю, конечно, не то, что имеется в виду в лингвистике (двойная артикуляция/членение), в грамматике (артикуляция/членение смысла посредством синтаксических операторов) или в логике (правильно построенные выражения и их комбинации). И конечно же не великую артикуляцию реальное/символическое/воображаемое, и не потому, что она ошибочна, этого я вовсе не буду здесь обсуждать, а просто для философа она является чистой метафизикой (это один к одному платонизм VI-VIII глав Государства), и она слишком обширна, огромна как Пещера или как план генштаба, чтобы помочь нашим маленьким фразам проникнуть на no man’s land[6] сил. Я попытаюсь ее сузить. Артикуляция — нечто куда меньшее. То, что я называю фразой, является, в невозможной непосредственности своего случания (фраза-token[7]), представлением некоторого универсума, будь он даже мал и слаб. Универсум означает: многое в одном. Одна фраза представляет сразу множество инстанций: quid, de quo, a quo, ad quod[8], т. е. соответственно смысл, референта, адресанта и адресата. Эта квадриангуляция (которую можно сопоставить с анализом Пирса) имеется, если можно так выразиться, в принципе, пусть даже та или иная инстанция и не занята в универсуме, который представляет фраза, т. е. не обозначена в данной конкретной фразе. Она тем не менее образует ту артикуляцию, о которой я говорю. Во фразе может не хватать двух, трех инстанций, и даже четырех (во всяком случае, во фразе-молчании, которая, следовательно, может быть значима четверояко: молчание относительно смысла, относительно референта и т. д.; сопоставьте с четырьмя Ничто Канта), что не мешает этим значимостям быть предполагаемыми или подразумеваемыми, а также не мешает и тому, что, поскольку все равно придется увязать последующую речь с этой безмолвной фразой, то это и осуществится посредством одной (или более) из этих валентностей. Ибо инстанции, которые артикулируют то, что фразa представляет в виде универсума, являются также и валентностями, посредством которых одной молекулярной фразе удается соединиться с одной или со многими другими. Не важно, будет ли это происходить безо всяких правил сцепления, как в свободной ассоциации, или, напротив, по тому или иному правилу (которое в этом случае частично определит вид дискурса).
Я больше не могу развивать здесь эту мысль и отсылаю вас к Le Différend. Но в этой книге недостаёт как раз того, что имеет значение для нас здесь и что я стараюсь (в качестве философа) восполнить: quid бессознательного с точки зрения фраз.
“В качестве философа” не означает, что речь сейчас пойдёт о теории. Теорией является математика, и тогда она как таковая не имеет никакого отношения ко “всему тому, что происходит”, как говорил Витгенштейн о мире. Или же это теория научная, которая, следовательно, служит лишь гипотезой для формализации, по возможности, всего того, о чем знают или полагают, что оно происходит. Пусть даже придется изменить гипотезу, когда произойдет что-то новое. Однако что до нашего объекта, до бессознательного, то оно является тем, что происходит, но именно как нечто ускользающее от теории. Более того, оно происходит “во фразах”, и, следовательно, в виде фразы, но фразы неартикулированной. В ее универсуме отсутствуют все или некоторые инстанции, которых ждет от этого универсума наша артикулирующая способность (здравый смысл, разум) с тем, чтобы присоединиться к ней посредством другой фразы. Излишне добавлять, что эти “молчания” происходят нерегулярно. Поэтому теория, начиная с теории механической, в принципе не способна их объяснить. Она действенна лишь на правах метафоры.
Чтобы завершить дискуссию по этому вопросу, я выражусь так: если бы дело обстояло иначе, то психоанализ был бы наукой. А он является искусством. Он вполне может пользоваться теорией, подобно тому как искусство лечить, медицина, пользуется биогенетикой и биохимией. Но он не должен разрешаться в теорию. Разумеется, именно потому, что во внимание принимается особая сингулярность этого “происходит”, эта затея и не может быть ни теоретической, ни научной. Пациент и психоаналитик работают над фразами-token и при помощи фраз-token так, как они происходят. Мне кажется, что это правило имманентности, которое является правилом психоаналитической “техники”, имеет, само, как таковое, если ограничиться им одним, своего двойника (сказать ‘аналог’ было бы недостаточно) в правиле рефлексивного суждения в кантианском смысле: судить, то есть увязать [enchaîner]; Кант это называл: синтезировать без критерия; регулировать без правила регулировки. Oтличать и группировать посредством аналогий. Юриспруденция в отсутствие права (теории). Философствование — ничто иное, как это. Вот почему Кант говорил ещё, что “учиться можно только философствовать”, а не “философии”. А это и есть модус художественный, или “технический”. Я полагаю также, что учиться можно не психоанализу, а психоанализировать.
Что не убавляет различия между психоаналитиком и философом. И оно — в клинике. Фразы-token, которые образуют мир первого, исходят от пациента (а в клинической ситуации и от аналитика). Фразы-token, которые составляют мир философа, — это, конечно, фразы-token из повседневной жизни, “как у всех”, а также фразы-token из книг, которые он читает. И среди этих книг — книги Фрейда, которые пересказывают фразы-token его пациентов. Мoгут сказать, что в обоих случаях это “текст”. Это замечание мне кажется неясным. В ходе лечения “текст” подчиняется: 1) правилу (технике) неупорядочения смысла (свободная ассоциация); 2) правилу неупорядочения адресата (трансфер: аналитик служит addressee всем фразам пациента, и вся задача здесь сводится к тому, чтобы определить, кому именно адресуются эти фразы, устранить молчание, висящее над ad quod; философ в качестве читателя повседневной жизни и книг действительно “адресован”, как говорят по-английски, фразами своего мира, но к нему всегда адресуются лишь как к читателю. Можно много говорить об этой философии философского “чтения”); 3) правилу реально отсчитываемого времени (продолжительность, частота сеансов; длительность анализа; и обязательное “присутствие”, в том смысле, что абсентизм наказывается; тогда как философ, в принципе и по преимуществу, вольнooпределяющийся и доброволец. Если не считать принуждения со стороны профессорского “расписания”, которое сущностного отношения к собственно философствованию не имеет).
Однако, как мы уже знаем, допущение физической метафоры заключается в том, что эти правила, взятые в целом, выполняют функцию возбуждать/вызывать, заставлять явиться перед трибуналом фраз, отправлять в погоню посредством фраз — за чем-то, что предполагается притаившимся в молчании, которое не является фразой, в молчании сил. Это молчание является артикулированной речью не в большей степени, чем речь, которая царит над галактиками. Вся современная механика (современная потому, что сопровождается критикой наделенной целью Природы, которая якобы обращается к нам с речью) говорит о том, что молчит и за него; механика, словно остаток физики без Phusis’a. Смысл физической метафоры заключается в том, чтобы открыть глаза, — только зрение, но никак не слух, — на безмолвные движения. Универсум фраз физиков хорошо структурирован, он имеет/создаёт смысл (во многих значениях выражения faire sens) посредством своих полярностей; но мир, не представляющий из себя ничего кроме превращения энергии, как в макро-, так и в микрокосмическом масштабе, не говорит ничего.
Поставленная таким образом, при помощи физической метафоризации элементарных процессов, аналитическая задача кажется философу невыполнимой, предприятием, обречённым на провал. Ибо можно либо неправомерно вставить структуру универсума фразы (сигнификация, референтность, адрес) в мир (сил) таким образом, чтобы суметь снова перевести репрезентирующие фразы, субституты, во фразы, предположительно репрезентируемые, замененные, которые выступают как бы первичными процессами; в этом случае мы заполняем пропасть, открытую физической метафорой, и сразу устраняем упорное сопротивление бессознательного. Либо сохранить это сопротивление нетронутым, и никакая интерпретация не сможет преодолеть механическое безмолвие. Можно только совершенно произвольно “заставить его говорить”. Я имею в виду: аксиоматически, как в современном механическом объяснении, что исключает интерпретацию или слушание того, что происходит в сингулярности. Нельзя одновременно предпринимать анамнез бессознательной “жизни” и объяснять симптомы (т. е. принимать их как следствие из определённым образом установленных правил. Конфликт психоанализа с психиатрией.)
Альтернатива этому является, я это признаю, типично философской: она помещает всякий смысл на сторону сознания, или, по крайней мере, артикулированной речи, и отделяет от него физику как мир неразумного, объяснить которое, извне, аксиоматически, может исключительно наука. Фрейд не ошибается, так отвечая на это возражение: если посредством лечения мы модифицируем сознательные процессы, то мы тем самым предъявляем доказательство, что существуют бессознательные процессы[9]. В добропорядочной эпистемологии это, разумеется, не так: мы просто предъявляем доказательство того, что аналитическое отношение имеет свои последствия. И даже если доказательство существования бессознательного было бы предъявлено курсом лечения, принципиальный вопрос остался бы неразрешённым. Каким образом возможно преобразование механического молчания посредством talking и молчания в talking[10]?
Eщё раз: каковы философская альтернатива и философский вопрос? Т. е. такие, которые установлены на уровне понимаемого или, по крайней мере, представимого. Причем это момент, на который философ должен обратить особое внимание, если не хочет слишком промазать: бывают, говорит Фрейд, представители без представления. Имеются в виду подмены, которые не обнаруживают себя как подмены. “Oткуда же вы знаете, что это представители?” — спросит философ с усмешкой. Аналитик ответит: “Потому, что аффект, этот представитель без этикетки представительности, этот не-делегат, из-за которого ко мне приходят и от меня уходят, как раз и служит нам проводником, анализанту и мне самому, во время нашего блуждания в лабиринте ассоциаций”. Это не просто принять рассудком: именно то, что не выдаёт никакого знака своего происхождения и не допускает никакой локализации, посредством присущей ему странности, и служит толчком к путешествию по воспоминаниям. Durcharbeitung против Erinnerung[11]. Философ, кажется, знает из области памяти только это последнее.
3. Моменты
Я уже сказал, что вопрос трансформации молчания во фразы связан с вопросом первоначального вытеснения. Я исследую его здесь с точки зрения времени. Возбуждение, о котором здесь идёт речь, создает один “эффект”, аффект, кажущийся парадоксальным, по отношению ко времени. На это указывает Nachträglichkeit[12], переживание постфактум, которое неразрывно связано, согласно Очерку, с prôton pseudos[13]. Иначе говоря, с двойной “погрешностью” в данных.
Когда философ объявляет, что будет говорить о времени, добра не жди. Постараемся ввести различия: переживание постфактум одновременно предполагает и отрицает, что время, о котором идет речь, есть время физическое, или как раз механическое. Т. е. “количество движения”[14]. Движение исчисляется во времени только с помощью меры, которая является движением-эталоном. Сам эталон есть соотношение между постоянными единицами расстояния и единицами времени. Столько-то единиц времени за единицу расстояния или наоборот. Kак мы знаем и как знал уже Аристотель[15], это определение включает petitio principii[16]: движение, которое исчисляет время, предполагает время. Kрасивый пример физической аксиоматики. Этот “недостаток” является общим для всех “определений”, употребляющихся в математике и науке. Фактически они являются декларациями имён собственных, которые, будучи строгими, независимыми от обстоятельств и воспроизводимыми, достаточны для измерения изменения. Время хронометра задает одну из переменных трансформации (например, кинетической), которая влияет на данные.
Переживание постфактум требует рассмотрения этого времени, так как предполагает, что действие произошло, скажем, во времени t2, но его “эффект” (аффект) проявился только во время t1 или t0, и что расхождение между t2 и t1 или t0, если даже его, быть может, и не нужно точно измерять, тем не менее требует времени хронометра, по крайней мере, времени календаря: Эмма в восемь лет, в тринадцать лет, взрослая[17]. Но переживание постфактум, впрочем, опровергает хронологическое время: аффект, “произведенный” действием в момент t2, имеет место не в нём, а в моменте t1. Однако в t1 он не опознан и не локализован, он имеет в нём место как некоторое новое чувство — страх. Затем он повторяется всегда неожиданно, а значит, в режиме “нового раза”, как говорится по-французски, т. е. одновременно и первый и повторяемый, вплоть до t0, когда Эмма на диване Фрейда испытывает его наконец (как утверждает Фрейд) “сознательно”, т. е. фразирует его, репрезентативно локализуя его источник (возбудитель) в t2, таким образом, его, быть может, “ликвидирует”. Oпровержение хронологического времени заключается в том, что для того, чтобы принять “толкование” Фрейда (и/или Эммы), нужно представить себе либо “дление” аффекта без трансформации, без движения и без представительного представления от t2 до t0, вопреки диахронии, либо его простое и чистое зарождение в t0, вызванное собственно запоминанием, и следовательно, со значительной отсрочкой воздействия, как если бы удар был нанесен не ударом, а воспоминанием об ударе. Известно, что Фрейд колеблется перед этой решающей альтернативой. Я еще вернусь к этому узлу, к вопросу о возбуждении и к тому, как его развязать. Но в обоих случаях следствием является то, что хрон[олог]ическое время не аффицирует аффект: он либо остаётся нетронутым все время длительности, либо рождается в конце (t0) из-за представления (воспоминание о t2), но таким, каким он должен был бы родиться в начале, из “переживания”, которое оно представляет.
Это последнее рассуждение помещает проблему уже в другую темпоральность, ещё связанную со временем хронометра, но другую, ту темпоральность, которую ищет философия сознания или феноменология. Если вернуться к знаменитой схеме Гуссерля из Лекций о внутреннем сознании времени, то видно, что она содержит время, обладающее двумя измерениями, потому что она учитывает запоминание. В то время как на горизонтальной линии хронологической последовательности моментов сознание перемещается из t2 в t1, затем в t0[18]; на вертикальных линиях, которые опущены из этих моментов, запечатлеваются не сами эти моменты, но моменты как прошедшие, как образы, “увиденные” из позднейших моментов. Каждый из этих образов изменяется по мере того, как актуальное сознание перемещается по горизонтальной линии.
Гуссерлевское расположение линий в виде сетки или решётки допускает, таким образом, многие континуумы, которые представляют или должны представлять собой проблему для мышления актуальной (следовательно, прерывистой) интенциональности. Прежде всего, континуум горизонтальной линии, который не является феноменальным и производен от физических часов, не имеющих отношения к мышлению о сознании. Затем континуум “вертикальных” лучей, в котором прошлые события продолжаются в своих образах и который является не только проекцией на 90° из точек, создающих первую [линию], но и реквизитом для памяти, не полностью воображаемой: кое-что из t остаётся, будет задержано в t’, t” и т. д. Реквизит, с помощью которого Гуссерль думает справиться с термином Retention[19], иллюстрируемый вертикальной последовательностью. Но этот термин создаёт в свою очередь проблему для философии сознания, так как указывает на то, что “синтез” t со своими образами не вытекает из интенционального акта воспоминания, но является более “древним”, чем он, т. е. произведённым “до” этого синтеза. Следовательно, имеется материя памяти, склад с воспоминаниями, где они расположены на следующих один за другим экранах — вертикальных линиях, как в схеме психического аппарата из главы VII Толкования сновидений. Нет феноменологического времени, которое было бы чистым, прерывистым, свободным от власти одновременности или сращенности, и эта власть происходит не из интенционального акта. И наконец вступает третий континуум, континуум наклонных линий, которые представляют собой установку, направленную от “актуальных” интенциональностей на их интенциональные объекты, также присутствующие, но в качестве прошлых. Этот третий континуум просто выявляет в принципе, что всякое сознание есть “сознание чего-либо”, или что интенциональный акт всегда референтен. Правилен этот принцип или нет, но он исключает всякую мнесическую[20] устойчивость, которая не была бы репрезентативной: t’ или t” являются образами t для осознающего [consciencielle] зрения. Тем самым он исключает возможность того, чтобы t’ или t”: 1) не был интенциональным объектом; 2) не был связываем с t, которое он должен представлять. Двойное поражение в деле представления: недостаёт и взгляда, и знака его замены. Oдно какое-то чувство — скажем, примечательное этой двойной нехваткой — не могло бы служить руководством в гуссерлевской сети. Дла него в ней не было места, и следовательно, оно не имело бы места.
Следовало бы рассмотреть ещё совершенно сингулярные (в обоих смыслах слова) темпоральности, которые связаны со “способностью” чувствовать удовольствие и боль. Согласно Kанту, философ, и особенно если он интересуется аффектом, должен убедиться в том, что эта способность, или претерпевание [possibilité] ума или души, или мысле-тела [la pensée-corps] (название не имеет значения), хорошо или плохо себя чувствовать — отделимо от способности знать или действовать. Это то, что показывает Kритика способности суждения: прекрасное есть чистое счастье души, возвышенное — счастье, опосредованное несчастьем, при том, что и то и другое — чистые. Однако даже если Кант не слишком развивает этот момент, это счастье простое и это счастье осложненное развивают (и в них развиваются) темпоральности совершенно специфические, отличающихся от только что упомянутых темпоральностей, и отличающиеся между собой. Именно чистоте этих эстетических чувств, т. е. при условии, что они будут очищены от всякого познавательного или волевого интереса, эти темпоральности обязаны своей сингулярностью. Этот момент, который я считаю наиважнейшим для исследования бессознательного аффекта и переживания постфактум, заслуживает отдельного анализа. Если верно то, что на прекрасном мы “задерживаемся” и что счастье, которое оно даёт, зависит от его длительности, от его “сохранности”[21], и если верно то, что возвышенное чувство предполагает нечто вроде спазма или стазиса синтеза времени[22], что и образует его несчастную составляющую, то было бы полезно сравнить с этими темпоральностями эстетического наслаждения ту долю устойчивости и ту долю амнезии (темпорального стазиса), которые можно найти в бессознательном аффекте. Mutatis mutandis, конечно.
Теперь я возвращаюсь к вопросу, заданному Фрейдом Гуссерлю в связи с идеей первоначального вытеснения. Предположим, событие (возбуждение) произошло в момент t2. От этого события нет представляющего следа в вертикальном ряду t’2 , t”2 [23] и т. д. Стало быть, псюхэ (Эммы в t2) не имеет представления о событии. И не то чтобы его образы были слишком неясными или бледными, а просто их вовсе нет. Итак, вместо вертикальных линий — пробел, момент t2 забыт сразу. Он не вписан в порядок представления. Или то же на языке механики: энергия, введённая посредством возбуждения в t2, не включена и не была включена в представляющие образования, ни в сознательные, ни в бессознательные. Или еще иначе: психический аппарат не имел способов “защититься от возбуждения”. А значит, он был подвержен воздействию, не будучи в состоянии представить (себе) вызванное чувство, т. е., как и полагается по фрейдовской теории, не имея возможности его контролировать и “ликвидировать”. На языке общей физической метафоры: не будучи в состоянии направить энергетический заряд, который и есть это чувство, по выводящим путям, к его разрядке. И наконец, в терминах проблематики Repräsentanz: этот аффект, энергетическое облако, неточно зафиксированное в психическом аппарате, но и не “свободное”, и есть тот способ, которым возбуждение в нём присутствует. Присутствует, т. е. не представлено.
И вместе с тем оно подчинено представляющим (вещным и словесным) заменам, которые непрестанно производятся в течение всей истории жизни, образуя ту ассоциативную ткань, которую исследует анализ. Так что ускользая от представления “эффект” возбуждения, аффект, ускользает также и от темпоральности. По крайней мере, как количество. Ибо в отношении своего качества (смысл его чувства) и своего назначения (addressor/addressee[24]) аффект может бросаться, и не раз, во все стороны. А значит, скажем походя, качество и адрес есть ещё, или уже, то, что в аффекте относится, пусть издалека, к представляющему, к артикулированной речи и ко времени.
Для того чтобы понять статус аффекта, приходится признать различие (которое я считаю “онтологическим”) между Darstellung, présentation, и Vorstellung, représentation. Аффект как “эффект” возбуждения — налицо, но он не налицо для иного, чем он. Это и составляет одновременно и его неопровержимость, и его недостаточность как свидетеля. Он “говорит” только одно: что он здесь, но как свидетель чего и для чего — не говорит. А также ни когда, ни откуда. Да и то он говорит, что он здесь, только если на него обращают внимание. Фрейд обозначает это как бессознательный аффект; абсурдный эпитет, соглашается он, при том, что он касается только того, что может воздействовать именно на сознание. Его статус не лишен связи с innere Empfindung[25] — чувством эстетического наслаждения, анализируемым Кантом: это внутреннее восприятие оказывается одновременно и свидетелем, и вещью, свидетелем которой оно является[26]. Это то, что иногда называют (Фрейд в частности) “переживание”. Очень плохое слово, которое всё запутывает. Аффект именно не переживается. Oблако окрашивает репрезентативную жизнь, просто так, без причины. Легко пренебречь этим колоритом, и так часто и делают. Если есть курс лечения, если он является вниманием к аффекту, то это значит, что “присутствие” аффекта стало слишком интенсивным и чрезмерно частым для пациента. Анализ не руководствуется никаким иным мотивом, кроме как “работать” это присутствие. Таким образом, он обращает внимание на эти хроматизмы, но с особой и строгой тонкостью — внимание, которое парит над ними, не решая заранее, что здесь главное, а что пустяки.
Что касается времени, то этот статус непредставляющего “присутствия” связан с модальностями его рекуррентности. Я полагаю, что аффект страха, который “присутствует” всякий раз, когда Эмма должна одна войти в магазин, “представляет (себя)” каждый раз, как впервые. С силой (я прибегаю здесь к физике) “убеждённости” или жертвенности/победности [viction], с удушающей энергией события. Что вовсе не предохраняет Эмму (сознательную) от того, что всё опять повторяется. Не следует смешивать коннотацию — если можно так сказать (но как сказать?) — рекуррентности, являющуюся коннотацией аффекта, с предполагаемой репрезентативностью. Если он ре‑презентирует(ся), то это именно и значит, что он не репрезентирует ничего. Он только случается, сейчас и опять сейчас. Микель Борч-Джекобсен тщательно описывает эту парадоксальную черту повторения: она должна мыслиться не в терминах идентичности/инаковости, а скорее с точки зрения времени, “инициации”[27]. Вполне можно знать, что безмолвный гость снова проник в дом, и не знать, что он есть такое, тот же ли он самый каждый раз. Таково условие поведения под гипнозом и при истерическом припадке, “принуждение”[28] (в терминах общей физики, так как его com- означает извне), то, что Кант назвал бы восприятием без воспроизведения и узнавания[29]. Повторяется забывание. Непрерывна — прерывность.
Фрейд подчёркивает, что главным в аффекте является его количество, а не качество или “адрес”. Да или нет, удовольствие или боль и их “адрес” не оказываются решающими. Они принадлежат одно — сигнификации, другое — назначению, и как таковые относятся к артикулированной речи, составленной из фраз, фактически из сообщений, и отправлены от кого-то кому-то. Главное в аффекте — это насколько он заряжает, перегружает мысле-тело, психический аппарат. (Кант говорил, что сколь разнообразным бы ни было чувство по качеству, возвышенным оно бывает лишь настолько, насколько оно является “энергичным”. Oпять физика.) Под “перегрузкой” (термин механической метафоры) понимается “присутствие” фразы несигнификативной (удовольствие или боль?), неадресованной (от кого к кому?) и нереферентной (о чём идёт речь?), которое вдруг случается посреди хода фраз. Перегрузка создает пробел в гуссерлевской схеме времени и представлений. Этот пробел, “blank”, ослепляет мнесическую интенциональность.
Дoстаточно ли этих, совершенно негативных, черт, чтобы составить фразу? Фраза аффекта “говорит”, что нечто имеется, как вот [da], здесь и теперь, и в таком качестве, что это нечто не является ничем: ни смыслом, ни референтом, ни адресом. (Здесь нужно было бы дальше разработать кантианские Ничто.) Поскольку инстанции, которые артикулируют универсум фразы, в ней отсутствуют, то и нельзя сказать, что она представляет универсум. То нечто, которое она “представляет”, есть его “присутствие” по отношению к ней, его сиюминутное вот-бытие. Именно это и означает “внутреннее ощущение”, в его подлинном значении. И в отсутствие универсума, артикулированного согласно инстанциям, являющимся также чистыми валентностями в сцепленности других фраз с ней самой, фраза аффекта остаётся несвязанной или, если угодно, абсолютной. Особенно сложным кажется, что она не может быть взята в качестве референции (как репрезентация) никакой последующей фразой. И если возникнет задача вспомнить фразу аффекта, то трудно вообразить, что припоминающей фразе удастся локализовать первую в физической хронологии и даже в феноменологической темпоральности, которые ей равно неизвестны.
4. Удары [Coups]
Я не собираюсь “пере‑писывать” бессознательное, но хочу совершить маленький набег на метафизику сил (отвращение к которой внушает мне моя критическая ответственность, а может быть, и ответственность политическая, ибо известно, насколько эта метафизика опасна во времена “всеобщей мобилизации” разнообразных энергий).
Исходя из этого особого статуса фразы аффекта (надо было бы писать: фразы-аффекта), следует теперь описать “первоначальное вытеснение”, не прибегая к физической метафоре. Природа фразы-аффекта конгруэнтна природе этого “вытеснения”. Как первая не “говорит” ничего, так второе состоит в том, чтобы не вытеснять. “Возбуждение” происходит и останавливается. Этот стазис и есть фраза-аффект. Такая установка, отличающаяся отсутствием “защиты” или, скажем, полным претерпеванием [possibilité] (выражаясь идеально), может считаться “изначальной” в том, что она связана, разумеется, с неподготовленностью, свойственной детству (с исходным отсутствием артикулированной речи, в вышеуказанном смысле), но ещё и в том, что она сохраняется и тогда, когда артикулированная фраза расширяет или намеривается расширить свою компетенцию до аффектов. Она сохраняется и во взрослом состоянии, как претерпевание “присутствия”, других превратностей, одновременно искушающих и угрожающих, потому что мы перед ними “беззащитны”. Эта амбивалентная Hilflosigkeit[30] объясняет, почему Фрейд часто называет страх бессознательным аффектом, и почему он колеблется, какой статус ему приписать.
Именно этот статус претерпевания, “изначальный” в этом смысле, и разыгрывается в деле Эммы. Я напомню ту ее версию, в которой его излагает Фрейд в 1895 г. В этот момент в ней сказывается отсутствие двух гипотез: детской сексуальности и первичного нарциссизма, сформулированных Фрейдом позже, в 1905 и 1914 гг., и которые заставят снабдить переживание постфактум совершенно другой “логикой” (я охотно сказал бы: фрастикой).
Толкование, которое Entwurf даёт переживанию постфактум, умещается в нескольких словах. В восемь лет Эмма оказывается жертвой сексуального “посягательства” в лавке (t2). Она об этом не помнит и не была при этом “аффектирована”. Фобия, боязнь одной войти в магазин, возникает позже. На сцену с приказчиками (t1), которую она пережила в возрасте двенадцати лет, Эмма ссылается сначала как на пусковой механизм этой боязни. Ассоциациативное дополнение открывает доступ к сцене t2, напоминание о которой сопровождается наконец “sexuelle Entbindung”[31] (сексуальным разрешением, déliaison sexuelle). Фрейд делает вывод, что этот последний аффект есть отсроченный ответ на посягательство. Следовательно, именно воспоминание о нём провоцирует аффект. Эта интерпретация обосновывается следующими словами:
“Воспоминание вызывает [erweckt, теперь, в t0] то, чего оно не могло, разумеется, вызвать тогда — сексуальное разрешение [sexuelle Entbindung], которое превращается в страх”[32].
“Was sie damals gewiss nicht konnte”, “то, чего оно не могло, разумеется, вызвать тогда”. Немецкое sie грамматически отсылает к die Erinnerung[33]. Но отсылка семантически не обоснована, потому что тогда воспоминание не было воспоминанием. Скорее именно она, Эмма, не была способна тогда на эту “сексуальную разрядку”. При этом ведь еще предполагается, что она тогда (t2), не имевшая аффекта, является той же самой Эммой, которая испытывает это разрешение (трансформированное в страх) теперь, на диване (t0)? Я вернусь к этому моменту идентичности Эммы в следующей главке.
Такова была мысль Фрейда, в чем мы убеждаемся из резюме, которое он дает своей интерпретации:
Сексуальное разрешение “связано с воспоминанием о посягательстве — только поразительно, что оно [разрешение] не было связано с посягательством в тот момент, когда оно было пережито. Здесь мы имеем тот случай, когда воспоминание вызывает [erweckt] аффект, который оно не вызвало в бытность свою переживанием [als Erlebnis[34], тот же семантико-грамматический парадокс, что и только что], потому что пубертатная перемена [die Veränderung des Pübertäts], произошедшая с того времени, сделала возможным другое понимание [ein anderes Verständnis] воспоминания”[35].
В итоге апатия в возрасте восьми лет; способность страдать появляется с пубертатностью, т. е. генитальной сексуальностью. Именно эта возбудимость и делает воспоминание возбудителем. А между этими моментами — латентность; воспоминание утрачено за отсутствием аффекта, который оно могло бы возбудить.
Есть много оснований, чтобы не согласиться с этой интерпретацией, которая превращает пубертатную перемену в момент истинного рождения способности к претерпеванию.
Одно из таких оснований, и немаловажное, находится в самом тексте. Мы узнаём из него, что в восемь лет (t2) Эмма во второй раз возвращается в лавку со сладостями и что она отказывается вернуться туда еще раз, т. к. упрекает себя в том, что действовала так, “будто хотела спровоцировать посягательство”. Фрейд комментирует это несколько загадочно: “Фактически [tatsächlich] это переживание вызвано состоянием “угнетающей нечистой совести”[36]”.
Это переживание, dies Erlebnis, означает, как мне кажется, искушение или квазиискушение (“как если бы”) соблазнить и быть соблазнённой. Eго одного на самом деле достаточно, чтобы вызвать нечистую совесть. Текст не оставляет никаких сомнений в том, что это искушение было ”пережито” восьмилетней девчушкой. Неясным он остаётся в вопросе о локализации “угнетающей нечистой совести”: имеет оно место восемь лет (t2) или теперь (t0)?
Несмотря на эту неопределённость, надо признать, что Эмма несомненно была аффектирована сценой 2: Erlebnis искушения к соблазнению — под предлогом сладостей, я полагаю, но это неважно, — удостоверяет это. В то время она отнюдь не страдала апатией. Верным остаётся, что сцена была забыта, усыплена. Проблемой становится следующее: почему, будучи аффектированной, она забыла, что была таковой?
Забыла означает, что она не имела вплоть до t0 представления сцены 2 и того возбуждения, которое эта сцена в себе заключала (искушение). Имеется два возможных ответа на вопрос об этом отсутствии, и оба они находятся в тексте. Один ссылается на то вытеснение, которое Фрейд назовёт вторичным: предметным и словесным представителям удалось заменить представление сцены 2 вплоть до её полного сокрытия. Так произошло со сценой 1, с приказчиками. Фрейд упоминает множество репрезентативных аналогий со сценой 2 (лавка там и там, служащие и продавец, смех одних и “ухмылка” другого, одежда и халат, наконец сама Эмма, наедине с ними в обоих случаях). Но в кратком “обсуждении”, которое явственно относится к жанру судебного или исторического расследования, Фрейд приходит к убеждению в несостоятельности сцены 1 как пускового механизма: элементы, её составляющие, несоизмеримы с последующим аффектом, с паническим страхом, и с фобией, которая по идее должна быть его следствием.
Именно прислушиваясь к этому аффекту, дуэт Эмма-Фрейд (текст не указывает точно “автора” открытия) добирается до сцены 2, которую он квалифицирует как “источник” аффекта, т. е. как его исходного возбудителя.
Невозможно отбросить этот способ отвечать на вопрос о забывании, ссылаясь на вторичное вытеснение, т. е. на замену одних представителей другими. Но это забывание, обеспеченное “скольжением” представлений на основе аналогии, заключается только в ложной памяти, в репрезентационной парамнезии. Оно не учитывает амнезию аффективную, т. е. апатию, которая интересует Фрейда и которую затрагивает его тезис о Nachtr ä glichkei t: какими бы ни были представления аффекта, именно его самого не хватает в начале, и появляется он только в конце. Здесь мы и приближаемся ко второму ответу.
Действительно, Фрейд старается теперь объяснить эту изначальную апатию, которая является, по его мнению, истинным источником аффективной амнезии Эммы, общей латентностью претерпевания до пубертатности:
“К тому же в психической жизни необычно, чтобы воспоминание [Erinnerung] возбуждало [erweckt] аффект, которого оно не вызывало в бытность свою переживанием [als Erlebnis]; однако это совершенно обычно, когда речь идёт о сексуальном представлении [für die sexuelle Vorstellung], как раз потому, что пубертатная задержка [die Pübertätsverzögerung] есть общее свойство организации. Будучи подростком, каждый человек имеет мнесические следы [Erinnerungsspuren], которые могут быть поняты [verstanden] только со вступлением на сцену собственно сексуальных ощущений [Eigen-empfindungen], и каждый человек, вероятно, таким образом, носит в себе зародыш истерии”.[37]
Это дополнение к тезису о Nachträglichkeit говорит о нем и слишком много, и слишком мало. Напрашиваются, по крайней мере, три замечания. Во-первых, объяснение пубертатностью касается только появления “сексуальной репрезентации”, или, что то же, способности “понимать”, verstehen (отсылающее к этому “anderes Verständnis”[38] посягательства, которое пубертатность должна была предоставить Эмме). Из этого делается вывод, что пубертатность, посредством своих “собственно сексуальных ощущений”, не приносит никакой другой аффективности, и тем более не порождает аффективности, а только изменяет способность её репрезентировать.
А во-вторых, Фрейд тем самым сам себя опровергает. Мнесические “следы” существуют до того, как подросток будет в состоянии их “прочитать” как следует, т. е. на языке сексуальности. Являются ли эти следы репрезентациями (посягательства в случае Эммы), созданными на другом языке, препубертатном? Или они являются самими аффектами? Мне кажется, что следует выбрать вторую интерпретацию: эти следы есть то, что должно быть прочитано или репрезентировано, они не являются предшествующими репрезентациями. Подросток не реинтерпретирует свои инфальтильные репрезентации, он интерпретирует “сексуально” то, что он, ребёнком, репрезентировал в другом языке (“романном”, например). И в этом случае, поскольку следы являются аффектами, то их порождает отнюдь не пубертатность. Пубертатность порождает лишь другое “прочтение” аффекта, который уже имеется.
И наконец, обобщая причину амнезии (я уже не осмеливаюсь назвать ее аффективной) Эммы, относя её на счёт пубертатного запаздывания, Фрейд при этом наталкивается лишь на новое препятствие. Раз пубертатность — явление всеобщее, то случай Эммы не должен быть единичным, а истерией должны страдать мы все. Эта апория подстерегает любое искусство, в том числе и искусство психоаналитическое, когда оно хочет стать наукой: регулярность причинности уничтожает сингулярность одного случая. Нужно еще найти видовое отличие истерии внутри собственного рода (рода человеческого), состоящего из тех запоздалых пубертатов, которыми мы все являемся.
Я продолжу тем, что Фрейд предлагает для того, чтобы охарактеризовать данное отличие. Eго характеристика не только повторяет, усиливая, фрейдовское опровержение тезиса о начальной апатии, но и приводит нас прямо к вопросу о времени.
“Опыт учит опознавать в истериках лиц, о которых известно, с одной стороны, что они стали сексуально возбудимыми [sexuell erregbar] преждевременно [vorzeitig, до того, как пришло время сексуальности], благодаря стимуляции [Reizung, точнее: раздражению] механической или чувственной (мастурбации); и для которых можно допустить, с другой стороны, что их склонность [Anlage] предполагает преждевременное [vorzeitige] сексуальное разрешение [всё то же Sexualentbindung]. Однако понятно, что преждевременное возникновение сексуального разрешения или преждевременно более интенсивное [stärkere] сексуальное разрешение это одно и то же . Этот “момент” сводится к количественному фактору[39].”
Я ставлю здесь момент в кавычки, чтобы обозначить двусмысленность слова, которая сильнее проявляется в немецком языке, чем во французском: не только короткий период времени, но и результат совокупности сил. “Сводя” его к количественному фактору, Фрейд исключает или думает, что исключает, темпоральную коннотацию. Таким образом, физическая метафора, кажется, опять одерживает верх in extremis[40], тогда как сам Фрейд ссылается, в течение всего своего объяснения особого в своем роде истерического претерпевания, на сексуальную Vorzeitigkeit[41], на то, что эта последняя происходит из возбудимости или “развяз(ан)ности”. Это замалчивание объясняется, пожалуй, навязчивостью динамической и экономической гипотезы, т. е. физической метафорой, которая преследует Фрейда в этот период. Однако оно свидетельствует также о поразительной неопределённости смысла “сексуальности” в этом тексте. Призванное, в принципе, объяснить запоздалое появление расстройства, испытанного Эммой при напоминании о сцене 2, и как таковое связанное с пубертатностью, слово это обозначает “собственно” генитальность. Но оно распространяется также и на “пред”генитальность, так что приходится приписать истерику что-то вроде догенитальной генитальности.
Не философу решать, определяется ли это раннее созревание “предрасположенностью” или стимуляцией. Но он может расценить, что именно ему надлежит попытаться устранить неопределённость; не с тем, чтобы давать урок отцу психоанализа (ещё молодым он уже задал философам такую головоломку темпоральности, которая нам все еще не по зубам), а больше с целью уточнить свою собственную интуицию, что аффект можно и должно мыслить как фразу, не прибегая к физической метафоре. При чем мне кажется, что неясность в тексте 1895 г. рассеивается достаточно легко, если допустить, что генитальность вовсе не создает фразу аффекта (даже и в связи с воспоминанием), а является изменением, eine Veränderung, фраз этого рода. Скажем для краткости, что если лавочник и “лапал [kniffen]” маленькую Эмму через платье “за гениталии [in die Genitalien]”, то это не означает, что аффективность Эммы была преждевременно генитальной. Это означает лишь, что мужчина испытывал аффект несомненно генитализованный.
Вопрос (по-видимому, куда более широкий) об истерическом переживании постфактум, не является, следовательно, вопросом производства прежде отсутствовавшего аффекта, в связи с его мнесической репрезентацией; это вопрос поздней модификации “чистой”, или идеальной, фразы аффекта, сингулярность которой мы прежде установили (относительно времени), тогда как генитальная организация, зависящая от организации артикулированной речи “взрослого”, пытается её ассимилировать ретроактивно.
Этот способ вопрошания о Nachträglichkeit вдохновляется тем, что Фрейд позже разработает по поводу аффективности или инфантильной “сексуальности” в Трёх очерках и во Введении в нарциссизм. Я не могу здесь детально подкрепить это, как это нужно было бы, самими текстами. Я только утверждаю следующее: из разработки “сексуального”, которую нам дают эти тексты, мне кажется, следуют, в частности, определённые характерные черты, которые позволяют дополнить то, что я сказал о “чистой” фразе аффекта.
Сказанное касалось главным образом времени и сцепления [фраз]. То, что разрабатывает Фрейд, хотя и в других терминах, касается референтности и поляризации на адресанта-адресата, которых я охарактеризовал как конститутивные моменты универсума фразы, если она “артикулирована”. Инфантильной фразе аффекта (или фразе “сексуальной”) свойственно, что она не является ни референтной, ни адресуемой, что она не артикулируема ни по оси объекта, ни по оси назначения.
Сокращая доказательство, я совмещу эти два негативных свойства, полагая, что назначение и референтность действуют обычно вместе: мы устанавливаем идентичность того, о чём говорится (референт) для того, чтобы заставить признать её тем лицом, к которому обращена речь, и нуждаемся для того, чтобы установить идентичность референта (взятого в его “объективном” значении), в диалоге. Однако, говоря в терминах фраз, этот последний возможен, только если сущности (скажем, имена собственные), которые занимают соответственно пункты адресанта (я) и адресата (ты) в фразе pn , могут меняться местами на тех же самых позициях во время фразы pn+1 . Всё это известно из различных философий языка и теорий коммуникации. В качестве элементарных условий они справедливы для дискурсов, имеющих познавательную цель, которые должны подчиняться многим другим ограничениям; в качестве достаточного условия (в гипотезе, где я и ты говорят на одном и том же языке) они справедливы и для такого распространённого у взрослых дискурса, как “дискуссия” или даже беседа.
Я бы сказал, опять упрощая, что фразу можно считать артикулированной в той мере, в какой она различает (и отчётливо располагает) три местоимённых лица: два “первых” — на оси назначения, третье — на оси референтности.
Но гипотеза первичного “нарциссизма” означает, что аффективность сначала не знает инстанции я, потому что этот “нарциссизм” парадоксальным образом до-эгоичен. Что, кстати говоря, Фрейд предвосхищает уже начиная с Entwurf, когда замечает, что во избежание расстройства, которое испытывает я во время травмирующего воспоминания, нужно, чтобы “при первом же возникновении неудовольствия [der ersten Unlustentbindung] торможение посредством я [die Ichhemmung] не было ослаблено и чтобы процесс не происходил по типу посмертного [posthumes[42]] первичного аффективного переживания”. Что предполагается невозможным потому, добавляет Фрейд, что “самые первые травмы совершенно ускользают от я[43]”. На самом деле, здесь еще нет уже готового я, чтобы принять первый удар [coup] — удовольствие или боль; и если этот удар является “prôton pseudos”, то это не значит, что он случайно обманул тогда (в t2) защиту некоторого я; это значит, что я теперь (в t0), неосновательно полагая, что его тогда обманули, ошибается задним числом в отношении своей собственной неискушенности или своего чрезмерно раннего созревания. Аффект в t0 не “посмертный”, он, как всегда, есть простое “присутствие”, которое я фантазмирует как вещь (или не-вещь), казалось, уже похороненную.
Так же как инстанция я отсутствует в инфантильной фразе аффекта, второе лицо, лицо addressee, ей не знакомо. Я имею в виду, что “присутствие”, которым и является эта фраза (не обозначая его), не адресовано кому-либо ни как запрос, ни как ответ. Здесь я снова ограничусь примером немного, так сказать, побочным, и где Фрейд опять приходит нам на помощь. Обсуждая тезис Ранка о травматизме рождения, Фрейд подчёркивает, что рождение могло бы быть первым ударом, как это полагает Ранк, только если бы новорождённый страдал по этому случаю от потери объекта (аргумент сам по себе спорный). Однако материнская грудь (плацентарный карман) для ребёнка не есть объект. Это возражение распространяется на все первичные взаимоотношения грудного ребёнка и матери. Эти отношения не являются ни отношением адресата к адресанту, ни наоборот. То, что легкомысленно называют “телом матери”, отнюдь не есть ты. “Дуальное отношение”, которое описывает Лакан, не является отношением парным.
По поводу отсутствия (ничто) назначения фразы-аффекта ребёнка вряд ли более справедливо будет сказать, что он удерживает материнское тело, как своё собственное. Потому что если у него и будет собственное тело, то только в той мере, в какой некоему я удастся обеспечить себе право на собственность на него и его сохранность. Здесь следовало бы вернуться к интерпретации Fort/da[44] и Зеркала с точки зрения конституирования ты и я “в” детской фразе аффекта.
А пока я осмелюсь предположить, что “чистая” детская фраза аффекта не может содержать в себе запрос. Она не может просить аффекта или аффективного возбуждения, ибо она и есть аффект. Запрос есть ожидание связ(ан)ности. Однако эта фраза не позволяет инстанционно прикрепиться [prise instantielle] к цепи другой фразой, пусть даже фразой аффекта: Hilflosigkeit[45], от удовольствия или от боли. Его единственное время — теперь. Возвращаясь в лавку, маленькая Эмма не запрашивает заново возбуждения. Мы скажем, вслед за Фрейдом, что её аффект повторяет(ся). Но, будучи (как предполагается) чистым присутствием каждый раз, этот раз есть лишь событие, которое происходит теперь, и это событие и есть не что иное, как фраза аффекта.
Утверждая это, я уже касаюсь характерной для этой фразы изначальной нехватки референтности. Мы уже установили, что аффект ничего не “говорит о” (не “говорит” ни о чем). Здесь я соскальзываю с ситуации объекта, в смысле объектных отношений (запрос к тебе ответить мне на аффект), на его референтно-объективное положение. Иначе говоря: с его инстанционности [instanciation] во втором лице на его размещение в третьем лице.
Все эти переходы являются чрезвычайно значимыми и заслуживают детального анализа. Фрейд даёт пример тому во многих своих текстах, я имею в виду, в особенности, его Verneinung. Он формулирует итог этих переходов в понятии “полиморфная извращённость”. Это название, типичная взрослая метафора, означает следующее: всякий “объект” годится, как повод [occasion] для инфантильной (“чистой”) фразы аффекта (удовольствия или неудовольствия). Объект игнорируется ею и как референтная объективность, и как объектность (включая эгоичность, которая является лишь частным ее случаем) назначения.
Kак указывает само слово [sc. occasion], случайность (“тисканье” лавочника, например) создаёт сингулярный случай этой фразы аффекта, оборот, который она приняла. В совращении, в обычном смысле слова, в котором его сначала употреблял и Фрейд, нет необходимости. Нужна способность к претерпеванию, которую называют возбудимостью, и которая, в терминах хронологии или феноменологии, является “константой”. Совращение необходимо только в том смысле, что необходимо, чтобы эта возбудимость была возбуждена[46].
5. Непереводимое
Сама по себе, детская фраза аффекта не даёт никакой гарантии личной идентичности в течение времени. Чуждая физической или феноменологической диахронии, она скорее разоблачает (что, по крайней мере, всегда возможно) предполагаемую идентичность. Если она может разоблачить некую личность, то это значит, что эта личность, может быть, ложна относительно “присутствия” — фразы аффекта. Pseudos является здесь сама артикуляция, которую я для удобства сведу к тройной инстанционности местоименных лиц, когда она применяется к “присутствию”. “Возбуждение” есть не что иное, как аффект, и если оно беспокоит, то потому, что рассеивает (много ли, мало) эту тройственную диспозицию, являющуюся и гарантией идентичности.
В той степени, в которой взрослое состояние определяется по меньшей мере преобладанием артикулированной фразы и поскольку артикуляция необходима при сцеплении одной такой фразы с другой, в той же степени и время (физическое) последовательности и темпоральности (феноменологической) “эк‑стазисов” прошедшего/настоящего/будущего, которые в совокупности формируют то, что можно было бы назвать ‘взрослое время’, находится в полной зависимости от местоимённой артикуляции (или от её эквивалентов в других языках). Вот почему фраза аффекта (или “возбуждение”) случается здесь только как утраченное время. Eго можно было бы назвать (антифрастически?) мёртвым временем, временем рефлексии (в кантовском смысле) или временем мечтания, амнезии, неточных повторов (аффект ре‑презентирует(ся), будучи расположен во взрослом времени, т. к. оно не репрезентирует ничего), ночь интуиции, когда все кошки серые, потеря контроля и сознания цели, недостаток воли и понимания, утрата, отказ, ребячество.
Эти наименования выражают сопротивление идентичности аффекту. Аффект обязательно вписывается в порядок собственного как событие утраты собственности. Нетрудно будет доказать, что это верно и для чувств прекрасного и возвышенного, которые (с избранной мной здесь точки зрения), конечно же, требуют “до” или “после”, и в любом случае “вне” — артикулированной фразы.
Эмма страдает от нехватки гарантии со стороны артикулированной речи. Фрейд объясняет ее аффективной “перегруженностью”. “Потерянное время” случается “слишком” часто в диахронии Эммы. До такой степени, что приходится задаться вопросом, кто же она такая есть.
Личная идентичность не может конституироваться на одной лишь инстанции я. Декарт этому невольно дал самое лучшее доказательство: “Высказывание Я мыслю, следовательно, существую неизбежно является истинным всякий раз, когда я его произношу или порождаю в уме. <...> Это определённо так, но сколько времени? <...> Столько же времени, сколько я мыслю; ибо может случиться, что, перестав мыслить, я одновременно перестану и быть или существовать[47]”.
Ego cogito не имеет средств сопротивляться чистому прерыванию. Но он считает, что обладает средствами сопротивляться этому истинному prôton pseudos, которым является “злой гений”: “Следовательно, нет никакого сомнения в том, что я есть, даже если он меня обманывает”. Но тем самым он вводит свидетельство другого лица. Будучи сначала коварством (злой гений), это лицо будет заменено на того чистосердечного свидетеля, который есть Бог, но на том же самом месте. В обоих случаях ego становится или партнёром другого я (в качестве ты), или его референтным объектом, третьим лицом. Гипотеза о злом гении, или тезис о Боге, предполагает переключаемость мест на личные инстанции, поскольку в таком случае говорящий становится свидетелем. Из этого делаем вывод о том, что личная идентичность требует синтеза трёх местоимённых лиц в единой сущности.
И вот мы снова в круговороте сцеплений. В фразе tn эта сущность занимает позицию я; в tn+1 — в пункте он или она; в tn+2 — в пункте ты. Следует доказать, что это одна и та же сущность в трёх фразах.
Именно так обстоит дело с Эммой. Она говорит “я” (Фрейду), когда ассоциирует; она является собеседницей Фрейда, когда он её опрашивает или делится с ней наблюдением, а также собеседницей лавочника, когда он её совращает; она оказывается в позиции референта в отчёте об анализе, который нам предоставляет Фрейд. (Одно слово по этому поводу. Было бы интересно отличить это целиком объективированное третье лицо: “Она направляется в лавку”, от ложного третьего лица: “Нет, она не возвратится в лавку”, которое употребляется в несобственно прямой речи, как это называется в литературе, где спресовываются знак того, о чём говорят, и знак того, кто говорит, т. е. референта и адресанта. Это интересно потому, что речь идёт о нарушении принципа артикуляции. Конечно, это вполне скромное расстройство — это скромность флоберовского “реализма”, сценографирующего другую Эмму, — но оно аналогично случаю аффекта, забывающему о различениях лица. Литература, обречённая писать то, что не может писать само себя [écrire ce qui ne peut pas s’écrire], требует разного рода подобных нарушений, и это может легитимировать ту веру в литературный текст, которую испытывают психоаналитик и, на другом основании, философ.)
Вопрос идентичности Эммы из сцены в сцену встаёт с особой остротой. Как всегда, идентичность — это вопрос синтеза личных инстанций в артикулированных фразах, но он осложняется тем, что Эмма страдает серьёзными перерывами в течении своего взрослого времени: в фобийные моменты она “забывает себя”. Это то, что Фрейд заносит в рубрику искажения. И как мы видели, объясняя это последнее пубертатностью, он лишь снова наталкивается на проблему времени, в данном случае времени “раннего” аффективного созревания. Что мы выигрываем от того, что отодвигаем к началу истории Эммы, под именем Vorzeitigkeit, мотив расстройства, которое аффектирует её идентичность?
Прежде чем попытаться увидеть в этом затруднении всю его сложность, я вскользь возвращусь к более простому вопросу об идентичности в артикулированной фразе, фразе, объединяющей под одним и тем же именем единую сущность, которая выступает то адресантом, то адресатом, то референтом. Сказав “под одним и тем же именем”, мы этим уже почти всё сказали. Эмма одна и та же во всех инстанциях адреса и референции, представленных всеми относящимися к ней взрослыми фразами, просто потому, что ее всегда и везде называют или она сама себя называет “Эмма”.
Я не развиваю здесь этот момент, который отсылает нас к теории имени собственного как “жесткого десигнатора”, которую предложил Крипке и которую я принял, несколько видоизменив, в Le Différend[48]. Мне кажется, что имя собственное, имя Эммы, имеет идентификационную значимость, потому что оно идентифицируемым образом помещено в разные системы имён: в систему календаря, географической карты, различных единиц и мер (которые являются именами собственными, как это показывает Крипке) времени, пространства, веса и т. п., в систему родства. Все эти системы образуют мир имён, в котором эксклюзивная локализация имени всегда возможна, поскольку все связи между именами этого мира всегда одни и те же. Эмма — это имя сущности, опознаваемой по названиям мест, по датам, именам и фамилиям семьи, именам друзей, даже по цвету (глаз, волос) и т. п. По отношению к миру, вовлечённому в номинацию Эммы, те, кто обсуждает смысл сущности (взятой в данном случае как референт их обсуждения), т. е. те, кто обсуждает, как и мы, о том, кто она, Эмма, есть, уверены в том, что они говорят об одной и той же вещи. Но их согласие по поводу имени, данного референту, разумеется, не гарантирует того, что они ему придают одно и то же значение. Можно даже представить, что сигнификационный разрыв, резкое “изменение”, — возвращаясь к слову, которым Фрейд обозначает пубертатное преобразование, — может потребовать изменения имени. Расстройство может расстроить имя. Именно так, после того как Яхве обращается к нему, Аврам становится Авраамом. Нужно ли было, чтобы Эмма изменила имя после того, как ей была адресована генитальность? Принятие женщиной фамилии своего мужа во многих традициях, возможно, говорит в пользу этой гипотезы. Однако пубертатное изменение не является событием, каковым является голос, адресованный Аврааму. Если травма в жизни Эммы должна быть сравнима с “ударом”, который потрясает Аврама, то это может быть только удар от посягательства в лавке. Я не смешиваю Бога и лавочника, я говорю о том, что Закон вторгается в языческую аффективность с той же мощью, с какой секс (генитальность) нападает на детскую аффективность.
Причина этого проста. Как и Аврам, Эмма — ребёнок аффектируемый, или способный претерпевать. Но она “адресуема” не более, чем он. Яхве требует, чтобы Аврам его слушал, т. е. чтобы он поместил себя в позицию адресата его голоса, ты. Я не хочу и несомненно не могу продолжить параллель. Однако мне кажется бесспорным, что насилие в аффективной фразе Эммы во время сцены 2 происходит, когда лавочник обращается к ней как к “ты, женщина”. Его жест “говорит”: слушай различие полов. Т. е. генитальность. Он одновременно помещает девочку в позицию ты в диалоге, которая ей не знакома, и в позицию женщины в половом разделении, которое ей не знакомо.
Скажут, что в восемь лет это уже знакомо. Я согласен, но не это главное в идее — философской, а не психоаналитической, — которую я здесь преследую. Под именем лавочника я имею в виду всех и каких угодно “совратителей” и “совратительниц” (включая мать). Меня удовлетворит уже, если мы признаем, что “возбудителем” всегда является аффективная фраза взрослого типа, которая предполагает артикуляцию универсума в лицах и в лицах, наделенных полом.
Короче говоря, мне будет достаточно, если перестанут смешиваться понятия аффектируемости, affectedness, и адресуемости, addressedness. Сравнение, заимствованное из языка, пусть и обманчивое, может, по крайней мере, дать полное представление об этом различии. Можно представить себе, что Эмма-ребёнок говорит на определённом языке (удовольствия-боли) и что лавочник обращается к ней на чужом языке того же регистра (аффективного), но ей незнакомом. Когда мы находимся в аналогичной ситуации, в которой говорящий обращается к нам на неизвестном нам языке, мы не чувствуем, что то, что он нам говорит, абсурдно; обычно мы полагаем, что его фразы осмысленны (т. к. артикуляция фразовых универсумов такова в принципе, как я уже говорил); но мы также чувствуем, что они для нас лишены смысла, потому что мы не знаем, как их перевести на наш язык артикулированным образом и ответить на это с соответствующей связностью. Я бы сказал, что говорящий адресуется к нам и что мы лишь аффектированы этим “адресованием”, не будучи при этом собственно адресуемыми. Так и Эмма была аффектирована фразой — жестом лавочника, не имея возможности стать этим жестом “адресуемой”.
Здесь и кончается педагогическая функция сравнения, которое остаётся в принципе неверным. Потому что оно предполагает, если разобраться, что взрослый “язык” удовольствия (и боли) переводим на “язык” ребёнка и что это, так же как для иностранного языка, есть лишь вопрос обучения, или созревания. Именно это утверждает, к примеру, пресловутое “половое воспитание”. Но дело обстоит вовсе не так. Нельзя говорить о детском аффективном “языке”, ибо чистой фразе аффекта, которую я называю детством, не хватает артикуляций, необходимых для всякого перевода. А я здесь говорю лишь о самых элементарных из них, о референтности и назначении. Из-за отсутствия инстанций, которые вносились бы этими последними, непонятно, каким образом фразу аффекта можно было бы “перевести” на артикулированную фразу. Oна всегда находила бы при этом только слишком однозначные эквиваленты (именно это только что произошло с моим сравнением).
(По правде говоря, безмолвное “присутствие” аффекта — вздох — требует от артикулированной речи бесконечных мизансцен, романов, трагедий, эпосов, накопления и связывания противоречивых, неразрешимых, очень многочисленных или, по крайней мере, очень “точных” фраз (артикулированных), короче говоря, “блаженства” письма, чтобы взрослая речь справилась с невыполнимой задачей стать вровень с “ничто” детского аффекта. Ещё раз: литературное произведение (но также всякое художественное, а следовательно, и с другими материалом, помимо слов, и в других условиях) никогда не сможет “передать” эту непроизведенность [désśuvrement] — “чистую” аффективность. В чём оно сходно с произведением психоаналитическим.)
Если мы теперь обратимся к так называемому “взрослому” языку аффекта, то удивимся его разнородности. Причина этого та же, что так смущала рационализм: “Мы были детьми прежде чем стать взрослыми”. Каким образом разложить этот язык на то, что принадлежит ребёнку, и на то, что принадлежит взрослому?
Сексуальность — в смысле принципиального разделения на наделенные полом “роды”, несомненно, и составляет различие. Это не значит, что детская аффективность ничего не знает о генитальности (если предположить, что она вообще что-то знает). Eсли я продолжаю представлять ее себе чистой, то сексуальность обнаруживается здесь не в качестве различия между двумя полами, но как случай, который она предоставляет событию фразы аффекта. “Полиморфная извращённость”, детство как аффективность, рассказанная взрослым, отнюдь не обязана оставаться исключительно в генитальной зоне. И если можно различить “стадии”, которые обозначили бы эволюцию этой аффективности посредством последовательного выбора той или иной эрогенной зоны, то это несомненно потому, что выращивание, которому взрослый подвергает ребёнка, поочерёдно указывает на каждую из них в их еще смутной возбудимости. Оральность и анальность, не считая остального, могут служить доказательствами того, что упорядочение тела, предписанное взрослым, в изобилии предоставляет блуждающей аффективности ребёнка случаи быть аффектированной. Всякий воспитатель есть, в принципе, соблазнитель, в расплывчатом смысле слова.
Однако не в смысле лавочника Эммы. Потому что с генитальностью дело обстоит иначе. Вводя различие полов, она заставляет детскую аффективность — нужно ли это напоминать? — идентифицироваться с одним из этих полов, отнестись к другому как к сущности, которой она не может быть, а следовательно, как к объекту, и наконец обратиться к этому объекту как к своему предписанному партнёру. (Как ей удаётся со всем этим “справиться” — совсем другое дело.) Иными словами, институт генитальности (в гораздо большей степени, чем биологическое созревание) формируется параллельно с артикуляцией фразы аффекта в двойную полярность референтности (есть пенис, нет пениса; определение объекта посредством альтернативы может, конечно, основываться на другом свойстве; важно только да или нет) и назначения (я, у которого нет пениса, ты, который его имеет, и мы, один для другого). Мне кажется несомненным то, что генитальность не дала бы повода для совершенно специфического “удара” [”coup”], если бы она не принудила аффективное детство к артикуляции, так или иначе, в отношении к группе аксиом, которые ему a priori непонятны (в этом и состоит “Verständnis” Фрейда). [Эти аксиомы таковы]: что объект может быть объективно различаем в позиции референта (благодаря оппозиции: имеется референт или нет) фразы аффекта (отныне “взрослой”); что я сам есть объект, в равной степени определимый другим; что этот другой может быть со мной в отношениях диалога; что, наконец, он должен быть для меня, а я для него, случаем (на этот раз эксклюзивным и узаконенным, скажем так: нормальными условиями) для “производства” фраз-аффектов, с этого момента считающихся “следствиями/эффектами”.
В жесте лавочника по отношению к Эмме всё это “говорится”. И именно это Эмма как чистая аффективность не может понять и на это ответить. Аффект-лавочник адресуется к Эмме и устанавливает референтность на ней [est référencié sur elle], как это только что мы описали, но аффективность-Эмма не ведает о назначении и референции. Шок, вытекающий из того, что приходится назвать разногласием [un différend], закрепляется с этого момента как аффект в аффективности Эммы, без репрезентации. Лавочник, более приученный к артикуляции, я думаю, имеет с чем связать воспоминание о посягательстве в репрезентантивную сеть. Как бы то ни было, является ли его жест слабостью или перверсией, но он свидетельствует о том, что взрослый (так же, как и ребёнок) остаётся отданным на милость всякого непредвиденного случая “возбуждения”.
Я убеждён, что “фразеология”, которую мы только что разобрали, ничего не даёт психоаналитику из того, чего бы он не знал и что он не мог бы использовать. Eсли она и представляет какой-то интерес, то философский. “Чистая” аффективность, на которую я сослался, — это не физическое название возбудимости. Eе как раз подразумевает фрейдовский тезис об Urverdrängung[49]. Она связана, выражаясь антропологически, с детством. Говоря трансцендентально (в кантианском смысле), она является не чем иным, как “чистой” способностью к удовольствию и боли, “чистой” потому, что она не производна ни от какой другой способности.
Во “фрастике”, куда я решился забрести, она свидетельствует о претерпевании более “архаическом”, чем любая артикуляция, и несводимом к этой последней. “Присутствие”, чистая автонимия[50] аффекта, не переводится на презентацию и репрезентацию. Между этой аффективностью и артикуляцией разногласие неизбежно. Его нельзя устранить в споре (“Ну, будь благоразумен...”), от него нельзя и уклониться. Напротив, именно артикулированная взрослая фраза всегда пробуждает (возбуждает) претерпевание. И это пробуждение в ходе артикуляций создаёт стазис, который обнаруживает, в свою очередь, это непредставимое “присутствие”. Тот, кто возбуждает, возбуждается, за охотником начинается охота.
И ещё одно слово. В намеченной здесь перспективе различие полов производит шок, наносит удар лишь в результате, вторичном по отношению к разногласию между детским аффектом и аффектом взрослым. Согласно классическому тезису, это различие оказывается конститутивным для нарушения аффективности взрослого. В половом различии, конечно, имеется апория, поскольку оно артикулировано как взрослая фраза: женское есть совсем другой объект, чем мужской, и наоборот; и всё же предполагается, что их инаковость ориентирует их аффективное назначение/направление. Oбъективность каждого из них должна по идее направлять их взаимную объектность. Из того, что я сказал, следует, что апория не состоит в этом противоречии: что инаковость обречена на дополнительность. Она заключается в непереводимости детского претерпевания во взрослую артикуляцию. Kстати, если различие полов и может преодолеваться или воображает, будто преодолевается, то лишь постольку, поскольку та или сторона, или обе, прибегают к этому недифференцированному претерпеванию. Любовь существует лишь постольку, поскольку взрослые принимают себя как детей.
Перевод с французского Лидии Семёновой†
Сверка и научная редакция Михаила Маяцкого
Печатается по изданию: Lyotard Jean-François, “Emma”,
Nouvelle revue de psychanalyse XXXIX,
numéro spécial “Excitations” (1989) 43-70.
Комментарии переводчика
fréquentatif — фр., лингв. фреквентативный, итеративный, обозначающий повторяющееся действие; моторно-кратный глагол движения типа бегать, прыгать, летать. Зд. такой глагол возбуждать (т. е. обозначает двусторонний процесс в движении возбуждения от мужчины к женщине, туда и обратно, многократный; и тут начинает работать понятие Лиотара “артикулированная речь”, которая “связывает-сочленяет” взрослых мужчину и женщину) имеет пару возбудить (т. е. односторонний процесс, единичный, только туда; именно таковы отношения лавочника и Эммы-ребёнка; и здесь возникает понятие “неартикулированная речь”: до определённого момента девочка ещё не способна чётко осознать запрос взрослого мужчины).
excitatio — лат., возбуждение; citare — приводить в движение, потрясать, вызывать; ciere, cire — возбуждать, волновать, потрясать, приводить в движение, двигать, колебать; excitare somno — разбудить.
quid — лат., кто, что.
die Nachträglichkeit — нем., дополнительность, зд. последующее (=фр. l’apres-coup, переживание постфактум; cловарь по психоанализу: последействие).
die Vorzeitigkeit — нем., предшествование (грам.), зд. предшествующее, Vorzeitig — нем., досрочный, преждевременный (=фр. precoce, преждевременный).
consolatio — лат., утешение, ободрение; аллюзия на Боэция.
taedium vitae spiritus — лат., отвращение к жизни, пресыщенность;
desperatio cogitandi — лат., мыслительное отчаяние.
das Unding — нем., бессмыслица, нонсенс, абсурд, букв. невещь, зд. невозможная вещь (=фр. la non‑chose).
un ętre adressé č un etre non adressé — адресуемая сущность и неадресуемой сущность.
Dichtung — нем., поэзия, зд. поэтическое творчество.
Le Différen d — книга Ж.-Ф. Лиотара, Paris, Minuit, 1983.
talking cure — англ., разговорный курс.
Repräsentanz — термин Фрейда “репрезентатор”, зд. означает “представительство”, иногда репрезентация.
Vorstellungsrepräsentanz — термин Фрейда, представления как репрезентация (-тор влечения), представления-репрезентаторы.
les représentants-représentation — зд. термин Фрейда представление как репрезентация (-тор влечения); нем. Vorstellungsrepräsentanz; обычный немецкий термин Repräsentant редко встречается у Фрейда; в Словаре по психоанализу говорится о некоторой двусмысленности данного термина Фрейда (на немецком яз. здесь используются два разных существительных), переведённого на французский (на фр. яз. это два однокоренных слова).
figurabilité — зд. образность, фигуративность, ср. figuration — фигуративное искусство.
фр. “motion” — уст. движение; motion pulsionnelle — психоаналитич. термин импульс влечения; ср. англ. побуждение, синоним к нему “импульс”.
“investissement” pulsionnel — 1. окружение, обложение (крепости, города...); 2. инвестиция, вложение капитала; 3. психол. вкладывание сил в какое-либо дело; привязанность к чему-либо; 5. зд. психоаналитич. термин Фрейда “нагрузка”, иногда инвестиция, инвестирование (влечения, импульсная).
[1] Yan Thomas, "Du sien au soi", L'Йcrit du temps 14/15 (йtй-automne 1987), p. 157-172.
[2] S. Freud, "Entwurf einer Psychologie" (1895), G.W., Nachtragsband, Frankfurt a.M., Fischer, 1987, p. 444-451.
[3] S. Freud, S.E. 19, p. 215-217.
[4] “Примечание к амфиболии рефлективных понятий”, Kант, Критика чистого разума (1781), М.: Мысль 1994, 213.
[5] Ср. с идеей Лакана: "... бессознательное структурировано как язык. Все человеческие желания вписываются в уже существующий символический порядок, главной формой которого является язык... Бессознательное — это речь Другого". — Прим. пер.
[6] no man’s land — англ., "ничья, ничейная земля", бесхозная земля; никому не принадлежащая территория. — Прим. пер.
[7] token — англ., знак, опознавательный знак; вчт., маркер, лексема. — Прим. пер.
[8] quid — что; de quo — о чём; a quo — от кого; ad quod — кому, лат. — Прим. пер.
[9] S.E. 19, p. 215-217; et "Sur la psychothйrapie" (1904), S.E. 7, p. 266.
[10] le talking — англ., здесь: “говорящее”. — Прим. пер.
[11] die Durcharbeitung — нем., проработка; die Erinnerung — нем., воспоминание, память. — Прим. пер.
[12] die Nachträglichkeit — нем., зд. последующее, дополнительность (= l'aprиs-coup — фр., переживание постфактум; последействие). — Прим. пер.
[13] prфton pseudos — лат., основное заблуждение, которое порождает и другие заблуждения; принципиальная ошибка (выражение Аристотеля). — Прим. пер.
[14] Aristotle, Physique, 4, 11.
[15] Там же, 12.
[16] petitio principii — лат., аргумент, основанный на выводе из положения, которое само ещё требует доказательства. — Прим. пер.
[17] Я воспроизвожу здесь арабскими цифрами нумерацию Фрейда (loc. cit., 445 sq.): сцена 1 с приказчиками, сцена 2 с лавочником. Я добавляю сюда сцену 0 с диваном. Эта нумерация придерживается порядка появления рассказов Эммы во время сеансов. Соответствующие рассказы упорядочиваются путём инверсии от t2 до t0.
[18] Я ввожу здесь нумерацию Фрейда в гуссерлевскую диаграмму:
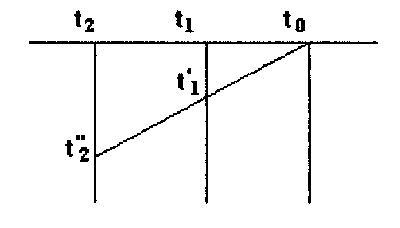
t' и t" являются репрезентациями сцен, расположенных на горизонтальной линии. Нужно было бы, если быть точным, разделить на две части, в t0, момент вызывания в памяти сцены с приказчиками t1 (= t'1) и момент, когда сцена с лавочником t2 (= t''2) вспоминается: между этими моментами потребовалось дополнение ассоциациями.
[19] die Retention — нем., удержание; фр., задержка; зд. ретенция (термин Гуссерля). — Прим. пер.
[20] mnйsique — относящийся к памяти, мнеcический; иногда мнезический: мнесическая устойчивость, интенциональность, мнесические cледы (нем. Erinnerungsspuren), репрезентации. Словарь по психоанализу Лапланша и Понталиса: символ мнесический + след мнесический (по Фрейду, способ вписывания событий в память, их запоминания... постоянно присутствуют в различных системах, но оживают лишь вследствие энергетической нагрузки). — Прим. пер.
[21] Kритика способности суждения, § 12.
[22] Там же, § 27 и 28.
[23] Так в тексте, возможна опечатка. — Прим. пер.
[24] addressor/addressee — англ., адресант-адресат. — Прим. пер.
[25] innere Empfindung — нем., внутреннее восприятие. — Прим. пер.
[26] Kритика способности суждения, § 9.
[27] Mikkel Borch-Jacobsen, "In statu nascendi", Hypnoses, Paris, Galilйe, 1984.
[28] compulsion — п/а термин навязчивость; зд. принуждение. — Прим. пер.
[29] Kритика чистого разума, с. 92-98.
[30] die Hilflosigkeit — нем., беспомощность. — Прим. пер.
[31] die Entbindung — нем., разрешение (от родов и т. п.). — Прим. пер.
[32] "Entwurf...", op. cit., p. 446 (перевод мой).
[33] die Erinnerung — нем., память, воспоминание. — Прим. пер.
[34] als Erlebnis — нем., переживание (= o?., un vecu). — Прим. пер.
[35] "Entwurf...", op. cit., p. 447.
[36] Там же, с. 445.
[37] Там же, с. 448.
[38] anderes Verständnis — нем., другое понимание. — Прим. пер.
[39] "Entwurf...", op. cit., p. 448.
[40] in extremis — лат., в последний момент, в крайнем случае. — Прим. пер.
[41] die Vorzeitigkeit — нем., зд. преждевременность, предшествующее. — Прим. пер.
[42] posthume — нем., младший; рождённый после смерти отца; оставленный; дополнительный. — Прим. пер.
[43] "Entwurf...", op. cit., p. 450.
[44] Fort/da — нем., там/здесь, туда/сюда, от/до (по ситуации). — Прим. пер..
[45] die Hilflosigkeit — нем., беспомощность. — Прим. пер.
[46] См. Jean Laplanche, "Fondements: vers la théorie de la séduction gйnйralisйe", Nouveaux fondements pour la psychanalyse, Paris, P.U.F., 1987, p. 89-147.
[47] Méditations metaphysiques (1644), Méditation seconde, in œuvres et lettres, Paris, Gallimard, (Bibl. de la Pléiade), 1952, p. 257 et 277.
[48] См. Saul Kripke, La Logique des noms propres (1980), фр. пер. Jacob et Recanati, Paris, Minuit, 1982 и Le Différend , Paris, Minuit, 1983, часть "Le rйfйrent, le nom", и лексика терминов в части "Nom propre".
[49] Urverdrдngung — нем., первоначальное вытеснение. — Прим. пер.
[50] autonymie — фр., автонимия, зд. подлинное, настоящее имя аффекта, в отличие от псевдонимии. — Прим. пер.
| начальная | personalia | портфель | архив | ресурсы | о журнале |