 |
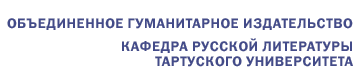 |
|
МОДЕРНИЗМ В РУССКОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ "ПЕРВОЙ ВОЛНЫ"* Международный семинар "Модернизм в русской эмигрантской литературе "первой волны"" проходил в Тарту и Таллинне с 5 по 7 октября 2000 года. Семинар был организован совместными усилиями кафедр русской литературы Тартуского университета и Таллиннского педагогического университета. Рецепция модернизма - это один из аспектов более широкого и самого актуального для русских литераторов-эмигрантов вопроса - вопроса о литературной традиции. Отношение к традиции во многом определяло статус русских писателей в изгнании, конкретизировало их литературную, эстетическую, идеологическую и нравственную позицию. Специфика восприятия русскими писателями-эмигрантами эпохи модернизма, т.е. литературного периода, непосредственно предшествовавшего революции и гражданской войне, обусловившим саму эмиграцию, должна рассматриваться в контексте так называемого "модернизма после модернизма" - феномена, существовавшего как в Советской России (до начала 30-х годов), так и на Западе (причем не только в русской диаспоре, но и в рамках европейских литератур). Немаловажно, что в 1920-е гг. писатели-эмигранты пребывали на историческом распутье: жизнь в Европе (по-разному складывающаяся в разных странах) без надежды на возвращение; ожидание скорого конца советской власти и соответственно возвращения в изменившуюся Россию; примирение с новым государством (возможно, после его трансформации). Проблема интерпретации символизма и постсимволизма стояла как перед самими участниками недавнего литературного движения (З. Гиппиус, Д. Мережковский, А. Ремизов, А. Толстой. В. Ходасевич), так и перед литераторами, с прежним литературным этапом лично не связанными (чаще всего по молодости лет). Название конференции указывало на два центральных тематических узла: 1) механизмы литературного наследования "исторического" модернизма писателями-эмигрантами; 2) "модернизм после модернизма" в эмиграции (проблемы саморефлексии; литературные и личные контакты "советских" и эмигрантских литераторов, связанных с этим течением; творческая эволюция "бывших" модернистов). В центре интересов участников конференции оказался первый из названных сюжетов. В большинстве докладов анализировалось отношение писателей эмиграции к модернизму как завершенному историческому феномену ("наследию"). Тематически доклады отчетливо делились на три группы. Первая и самая немногочисленная была ориентирована на проблемы интерпретации русской классической литературы и личностей писателей-классиков в творчестве эмигрантов. В докладе Ирины Белобровцевой (Таллинн) анализировалась интерпретация творческого и человеческого облика М. Ю. Лермонтова Юрием Фельзеном. Основным материалом доклада стал роман Фельзена "Письма о Лермонтове" (1936). Представитель молодого, "незамеченного поколения" (поколения, сформировавшегося в эмиграции), Фельзен не только идентифицирует себя с поэтом-романтиком, но и выстраивает отличный от символистских интерпретаций облик Лермонтова. В его восприятии поэт предстает уравновешенным, душевно щедрым, отличается "внимательностью и добротой к людям", "готовностью и умением любить", огромной и сознательной работой над собой. Таким образом, личность Лермонтова последовательно гармонизируется в противовес "демонизированному" Лермонтову В. Розанова или Блока. В докладе Андрея Немзера (Москва) говорилось о книге Бориса Зайцева "Жуковский". Автор указал на круг источников Зайцева (эпистолярий и опубликованные дневники Жуковского, первые "полумемуарные" биографии поэта, составленные его друзьями П. А. Плетневым и К. К. Зейдлицем; монография академика А. Н. Веселовского) и продемонстрировал, как Зайцев сознательно ориентируется на канон, восходящий к "автобиографическому мифу" Жуковского, поддержанный воспоминаниями ближайших друзей и поэтической традицией (В. Г. Бенедиктов, Ф. И. Тютчев, П. А. Вяземский, А. Н. Майков). Жуковский у Зайцева предстает, прежде всего, человеком целомудренным, наивным, возвышенным, несколько "не от мира сего". Конфликтные ситуации (проблема незаконнорожденности Жуковского, его ранний отказ от службы, матримониальные планы после замужества Маши Протасовой, участие в литературной борьбе) целенаправленно "смягчаются". Трагические или "двусмысленные" тексты анализу не подвергаются либо квалифицируются как чисто литературные опыты, не имеющие касательства к внутреннему миру и судьбе поэта. "Чистый" Жуковский (и его "благородное" время) скрыто противопоставляется художникам новой формации (ХХ век) с их смутными исканиями, "новой" этикой, смешением религии и искусства, жизнетворчеством, поглощенностью литературной борьбой. Неприязнь Зайцева к "новым временам" заставляет его последовательно игнорировать достижения литературоведов СССР. Внешне корректная биография "старого поэта" прячет в себе антимодернистский памфлет и ностальгическую апологию "потерянной России". Другую группу составили выступления, авторы которых рассматривали тексты или биографические "обстоятельства" эмигрантов-модернистов. В докладе Евгении Ивановой (Москва) говорилось об основных этапах эволюции Николая Минского, оставшегося верным главным эстетическим установкам раннего модернизма, несмотря на менявшиеся внешние обстоятельства. При этом Минский умел гибко приспосабливаться к меняющемуся социально-политическому контексту (революция 1905 года, эмиграция, сотрудничество с Советской властью и т.д.). Доклад Бориса Колоницкого (Санкт-Петербург) "О некоторых источниках "Синей книги" Зинаиды Гиппиус" был посвящен проблемам эволюции политических воззрений Гиппиус, формировавшихся под воздействием Бориса Савинкова в ходе революционных событий. Параллельно затрагивалась чрезвычайно важная для творчества Гиппиус проблема истории текста ее "Дневников". В докладе Леа Пильд (Тарту) говорилось об интерпретации облика Розанова в книге Гиппиус "Живые лица". В начале 1920-х гг. Гиппиус гораздо менее радикально оценивает идейный и литературный облик Розанова, чем в 1910-е гг. - пору их напряженной полемики. Связано это смягчение оценок не только с недавней смертью Розанова, но и с идеологической позицией Гиппиус. Демократическое устройство государства, с которым Гиппиус соотносит в начале 1920-х гг. будущее России, предполагает "равноценность", а не "равенство" индивидуальностей. "Равноценными" являются те из них, которые достигают вершин в процессе духовного "восхождения" (своей "меры"), а именно так думает Гиппиус о Розанове. В докладе Александра Данилевского (Тарту) "Модернизм и модернисты в "Повести о пустяках" Б. Темирязева (Юрия Анненкова)" была предпринята попытка опознания прототипических черт некоторых представителей русского модернизма в персонажах этого романа. Принципиальное разделение на модернизм и авангард ("модернизм" - синтетический тип сознания, все еще продолжающий традицию, "авангард" - аналитический тип сознания, разрывающий с традицией) находит отражение в персонажной структуре романа. Ни один из авангардистов в романе конкретно не назван; модернисты, напротив, узнаваемы (названы модернистские издания, журналы, деятели). Автор доклада подчеркнул, что Анненков сознательно противопоставляет модернистский и авангардный этапы в развитии искусства и соответствующие типы творческих стратегий. Татьяна Никольская (Санкт-Петербург) в докладе "Символистские мотивы в творчестве Ильи Зданевича (парижский период)" продемонстрировала ряд символистских аллюзий в "экзотическом" романе Ильязда (Ильи Зданевича ) "Восхищение". Подавляющее большинство выступлений было посвящено рецепции "исторического модернизма" в творчестве немодернистских или отошедших от модернизма авторов. Нина Каухчишвили (Бергамо, Италия) в докладе "Елизавета Кузьмина-Караваева в борьбе с русским модернизмом" рассматривала антимодернистскую позицию матери Марии в контексте воззрений русских религиозных философов (Николая Бердяева и о. Сергия Булгакова). В качестве иллюстрации к докладу были показаны слайды картин Кузьминой-Караваевой и проанализированы присутствующие в них мотивы, восходящие к эстетике символизма. В докладе Андрея Рогачевского (Эдинбург, Англия) говорилось о неудачной попытке князя Дмитрия Святополк-Мирского содействовать публикации английского перевода повестей Алексея Ремизова "Неуемный бубен" и "Пятая язва" (автор переводов - Алек Браун). Пять ранее неизвестных писем Мирского к главе издательства Чарльзу Прентизу (Charlz Prentiz), датируемых октябрем 1924 - мартом 1925, хранятся в архиве Редингтонского университета (Англия). Книга все же вышла два года спустя, но в другом издательстве, гораздо более радикальном - Lawrence&Wishart. Доклад Рогачевского был интересен, в частности, тем, что в нем затрагивалась проблема рецепции русского модернизма в западноевропейской (в данном случае - английской) культуре. Очевидно, что русская эмиграция существовала на Западе не изолированно и изучение "западного" ее контекста представляет собой самостоятельный и мало изученный вопрос. Как продемонстрировал в своем докладе "Алексей Ремизов глазами Ивана Бунина" Сергей Доценко (Таллинн), интерпретация ремизовского творчества у Бунина не претерпела существенных изменений по сравнению с дооктябрьской эпохой (имелись в виду бунинские суждения не только о Ремизове, но и о других модернистах). В эмиграции проза Ремизова воспринималась Буниным, в первую очередь, в контексте проблемы эволюции русского языка. Язык Пушкина, Тургенева и Толстого противопоставлялся Буниным и другими критически настроенными читателями Ремизова языку Гоголя и Достоевского. "Русский природный лад" Ремизова воспринимался ими как лубочная имитация народной речи. Доклад Татьяны Двинятиной (Санкт-Петербург) "Избранные стихи" Бунина в критике русской диаспоры" был посвящен рецепции последнего поэтического сборника первого русского лауреата Нобелевской премии по литературе. На фоне восторженных и/или уважительных отзывов большинства литераторов резко выделялись "разоблачительные" статьи критиков пражской "Воли России" Алексея Эйснера и Вячеслава Лебедева. В защиту Бунина выступил Владимир Сирин (Набоков). Резкая оценка поэзии Бунина пражскими критиками объяснялась как эстетическими, так и политическими (эсеровская направленность журнала) установками. Идеологический максимализм пражских критиков сопоставим с эстетическим максимализмом Брюсова и Гумилева, "мэтров" русской поэзии, весьма критически настроенных в 1910-е гг. по отношению к бунинским стихам. В эмиграции отношение "старших" модернистов (например, Гиппиус и Мережковского) к Бунину стало гораздо более ровным, свободным от категорических и радикальных оценок. Как было показано в докладах Галины Пономаревой (Тарту) и Геннадия Обатнина (Хельсинки), безусловное приятие заслуживают "классики модернизма (символизма)" у тех эмигрантов, которые ощущают себя отторгнутыми не только от России, но и от старшего эмигрантского поколения. В докладе Г. Пономаревой "Почему Иннокентий Анненский интересовал эмигрантов?" говорилось об апологии Анненского в кругу молодых поэтов парижского журнала "Числа". В докладе Обатнина "Мистицизм парижской ноты" было продемонстрировано, что термины "реализм" ("наивный" и "магический") употреблялись писателями "парижской ноты" как эстетический коррелят к "мистицизму". В этом авторы "парижской ноты" не только сближаются, но практически идентифицируются с эстетикой "младшего" символизма (Блок, Белый, Вячеслав Иванов). Диалог большинства эмигрантских писателей с модернизмом носил сложный, неоднозначный характер, и очень часто преемственность сочеталась с сознательной полемикой, избирательной литературной неприязнью, отторжением того или иного модернистского автора (направления), что в конечном итоге, вовсе не означало "забвения" литературы начала века. О последнем свидетельствовал, в частности, доклад Романа Войтеховича (Тарту) "Брюсов как римлянин в "Герое труда" Марины Цветаевой". Марина Цветаева отстаивала независимость своей оценки Брюсова в эссе "Герой труда" (1925). Это стимулирует поиски претекстов эссе среди более ранних отзывов и мемуаров. Так, например, статьи Максимилиана Волошина (1907) и Софии Парнок (1917) задали соответственно линии "апологии" и "защиты" Брюсова. Неизбежную "ограниченность" Брюсова Цветаева объясняет его "римством", но и "оправдание" поведения Брюсова поэта и человека она усматривает в его органической взаимосвязи с культурой Древнего Рима. Пожалуй, наиболее отчетливо неоднозначность отношения эмиграции к модернизму была выявлена в докладах о набоковской рецепции модернизма. Творчество Владимира Набокова рассматривалась в разных аспектах (жанровое разнообразие, отношение Набокова к современникам и предшественникам, особенности поэтики и "поэтической полемики" и т. д.). В докладе Александра Долинина (Мэдисон, Висконсин, США) подробно и на богатом фактическом материале была проанализирована полемика Набокова с "младшими" акмеистами (в первую очередь, Георгием Адамовичем и Георгием Ивановым). Был выделен пласт саморефлексии Набокова (высказывания, свидетельствующие о резком неприятии "младших"), а затем, на основе системы разных источников (критические статьи, письма, цитатный пласт "младших" акмеистов в прозаических и поэтических текстах Набокова) продемонстрирована объективная картина отношения Набокова к этой литературной группе и ее традициям. Набокова не устраивал миф о биографической причастности Адамовича, Иванова, Ирины Одоецевой и близких им поэтов Серебряному веку. (Миф этот создавался и культивировался самими младшими акмеистами.) Устанавливать преемственные связи с предшествующим литературным поколением Набоков предпочитал в литературном, а не биографическом пространстве. Неприятие литературного поведения и творчества младших акмеистов обусловило и его отношение к литературному учителю "младших" - Анненскому. В произведениях Набокова реминисценции из Анненского отсутствуют. Анненскому и "младшим" Набоков противопоставляет Ходасевича, и это, в частности, свидетельствует о том, что между Набоковым и отвергаемыми им авторами нет резкой демаркационной линии, что и Набоков и "младшие" лишь по-разному (в разных эмоциональных тональностях) интерпретируют "наследие". В ряде докладов были рассмотрены реминисценции из модернистских текстов в поэзии и прозе Набокова. Авторы основывались преимущественно на логике набоковских художественных текстов. Доклад Михаила Мейлаха (Франция) "Набоков и символизм" был посвящен анализу позднего поэтического цикла Набокова "Семь стихотворений". В основном речь шла о "блоковском" слое у Набокова. В докладе Федора Двинятина (Санкт -Петербург) "Набоков и модернизм: предположение и иллюстрация" был приведен ряд примеров рецепции модернистских текстов у Набокова. При этом были представлены поэты всех трех " модернистских направлений" (Блок, Ахматова, Маяковский, Хлебников). Проблема интертекстуальности у Набокова находилась и в центре интересов Марии Маликовой (Санкт-Петербург - Тампере), выступившей с докладом "Модернистская автобиография". Используя заимствованный из западноевропейского литературоведения термин "автобиографическая фигура", автор рассматривал тему книг как фигуру интертекстуальности в автобиографиях нового времени и специфику интертекстуальности в романе Набокова "Другие берега". Доклад Михаила Лотмана (Тарту, Таллинн) был посвящен проблеме "Набоков и формализм". Исследователь подверг сомнению распространенный со времен Ходасевича тезис об ориентации русской прозы Набокова на теоретические концепции "формальной школы". По мнению Лотмана, поэтика Набокова чуждается "остранения", писатель не снимает "покровы" со зримого мира, но обнаруживает смысловое единство "скрытого" и "явного", а потому для интерпретации его текстов теоретический инструментарий формалистов оказывается недостаточным. В докладе Марины Гришаковой (Тарту) была проанализирована визуальная поэтика Набокова как "прием сюжетосложения и стиля". Опираясь на логику художественного повествования Набокова, докладчик стремится рассмотреть живописные, кинематографические, оптические явления в набоковской прозе как "визуальные ключи" художественного текста, которые во многом определяют скрытую полемику с предшественниками и современниками. Такие визуальные ключи , по мнению М. Гришаковой, играют важную организующую роль в "Машеньке", "Камере обскуре", "Даре", "Других берегах". В этой связи была охарактеризована проблема наблюдателя (точки зрения) в прозе Набокова, а также проанализирована структура "визуальных метафор", которые у Набокова развертываются в сюжетные приемы. Было показано, что скрытая полемика Набокова с символистами проявляется в его прозе наряду с полемическими выпадами против европейского романа потока сознания. В докладе "О модернистской переакцентировке бродячих сюжетов массового сознания у Набокова: сюжет масонского заговора" Ольга Сконечная (Москва) указала на типологическое сходство между отношением к "слухам" у русских модернистов и Набокова. Однако в дальнейшем автор сосредоточился на собственно текстах Набокова, переосмыслении им устойчивых сюжетов массового сознания. В прозе Набокова они, как правило, десемантизируются и наполняются собственно эстетическим и металитературным содержанием. Тема масонства становится метафорой художественного замысла как тайного заговора. Так, например, тема масонофобии обнажает некую "параноидальную" структуру набоковских текстов, где герой преследуем разнообразными "символами" и "знаками" и где само обнаружение связей между событиями для него губительно. В докладе рассматривалось использование масонских аллюзий в "Защите Лужина", "Отчаянии" и "Приглашении на казнь". Доклад Омри Ронена (Анн Арбор, США) "Исторический модернизм, художественное новаторство и мифотворчество в системе оценок Владимира Набокова" затрагивал широкий круг проблем. Тема "Набоков и русский модернизм", по Ронену, находится на границе других, более широких областей: "Набоков и русская литературная традиция ", "Набоков и модернизм на Западе". Отношение Набокова к русскому и западному модернизму можно восстановить по его автобиографическим и критическим высказываниям, по литературным предпочтениям его персонажей-писателей и по выбору в его поэзии и прозе образцов для творческого изучения и художественного состязания. Литературное новаторство Набоков считал индивидуальным, а не групповым достижением. Критерием индивидуального новаторства было для него отношение к творчеству Пушкина. Отношение Набокова к представителям модернизма можно, в частности, реконструировать по его романам ("Дар", "Ада", "Смотри на арлекинов"). Несмотря на высокую оценку, которую Набоков давал в лекциях и критических высказываниях описательной технике "Петербурга", в "Даре" муза российской прозы прощается с Белым, да и со всей прозой русского модернизма. Настоящими новаторами эпохи модернизма (1890-1910 гг.) Набоков считал Чехова и позднего Толстого. Возможно, поэтому в "Аде" Демон Вин, споря с сыном, называет декадентами "бабника Левку Толстого" и "чахоточного Антона". Как показал Ронен, сопоставление русского модернизма с западным у Набокова нередко играет роль не только критического, но и художественного приема. В романе "Смотри на арлекинов" заметно наложение друг на друга двух литератур: английской и русской, характерное для молодого Сирина, который воспринимал Бунина в совмещении с Томасом Харди, Руперта Брука сквозь призму Гумилева, в Хаусмане находил неожиданное родство с Блоком. Ронен отметил, что несмотря на большое количество научных трудов, посвященных раскрытию "модернистских" подтекстов и аллюзий в творчестве Набокова, работа еще далека от желаемой полноты. Подобного рода замечания постоянно возникали в прениях по большинству докладов. Литературное наследие русской эмиграции пока не получило более или менее системной интерпретации. Ощущается очевидное "неравенство" в мере научного интереса к разным писателям-эмигрантам. При этом нельзя сказать, что явно "оттесненные" ныне авторы (например, Бунин, Шмелев, Зайцев, да и поздний Мережковский) изучены с достаточной степенью подробности. "Набоковский бум" (ощутимый и на конференции) обусловливает не только существенные достижения, но и возрастание эпигонских работ, не всегда продуктивную мифологизацию Набокова-Сирина, деформацию реальной, весьма противоречивой картины "русской литературы в изгнании". Как показал весь ход тартуско-таллиннского семинара, изучение эмигрантской словесности не может быть "замкнутым". Расширение контекста возможно как в синхронии (литература эмиграции и "советской метрополии", литература эмиграции как часть европейской словесности 1920-30-х годов), так и в диахронии (проблема развития и переосмысления традиции). Последний аспект - в соответствии с задачей конференции - и оказался доминирующим. Следует, однако, учесть, что для литераторов-эмигрантов (как, впрочем, и для их современников, работавших в СССР) традиция не исчерпывалась модернизмом. Другое дело, что рецепция русской словесности XIX века ("классики") в 1920-30-х гг., как правило, осложнялась диалогом с ближайшими предшественниками (символистами и постсимволистами), а восприятие литературы модернизма предполагало оглядку на "классические образцы". Так в ходе конференции неоднократно всплывал вопрос о реинтерпретациях Лермонтова; доклад об отношении Бунина к Ремизову вызвал дискуссию о бунинской версии "канона" русской прозы и его "нарушителях" - Гоголе и Достоевском; проблема "Набоков и формализм" неизбежно приводила к вопросу о "формалистских" прочтениях Толстого и т.п. Целый ряд затронутых на семинаре проблем несомненно требует тщательной разработки и дальнейших дискуссий. Будем надеяться, что в организации этих дискуссий достойную роль сыграют кафедры русской литературы Тартуского университета и Таллиннского педагогического университета, а их участниками станут многие докладчики прошедшего семинара. Андрей Немзер, Леа Пильд * Информацию о семинаре см. на странице http://www.ruthenia.ru/document/318434.html Назад |