ТютчевианаCайт рабочей группы по изучению |
|
| Главная | Библиография | Рабочая группа | Тютчев в прямом эфире | Ссылки |
| Генеалогическое древо | Музеи | Работы по Тютчеву | Стихотворения | Переводы |
Воложин С.
|
| Эпштейн | Роднянская |
| Это не отрицание веры, но отрицание верой. Даже богохульство, порой исходящее из авангардистской среды, может найти параллель в поступках юродивых. Так, «Василий Блаженный на глазах потрясенных богомольцев разбил камнем образ Божией Матери на Варварских воротах, ко- | [У Эпштейна] неверное понятие о древнерусском «юродстве во Христе», парадоксальном, притчеобразном поведении, демонстративном отказе от земного благообразия во имя красоты и сладости небесной. |
| торый
исстари считался чудотворным. Оказалось,
что на доске под святым изображением
был нарисован черт».
Следует различать нигилистическое отрицание, уничтожающее смысл веры, и «протестантское» отрицание, очищающее этот смысл. Авангардизм ближе ко второму.
В теологии наряду с катафатическим, »утвердительным», направлением, которое выносит определенные положительные суждения о природе и свойствах Бога, существует апофатическое, "отрицательное", считающееся более совершенным. Апофатическая теология выражает абсолютную трансцендентность Бога через нетождественность, иноположность Его всем видимым проявлениям через отри- |
...у Эпштейна это понятие [юродство] распространяется на любой безобразный и бесноватый жест, лишенный идеального полюса. Тут [у Эпштейна] намеренные или невольные «богословские» ошибки: так отец апофатического, «отрицательного» богословия Псевдо-Дионисий Ареопагит был в то же время родоначальником положительного религиозного символизма, учения о явленной тайне, без которого было бы невозможно средневековое искусство; Эпштейн же делает из него нигилиста, попирающего во имя неизречен- |
| цание Его имен и атрибутов. Любое определение оказывается несоизмеримым с тем, что должно оставаться скрытым в себе Абсолютом. В своем отношении к высшей реальности авангард тоже как бы разделяется на два направления, которые можно условно обозначить теми же терминами. | Ности Абсолюта все «высокое, истинное, святое». |
Как же сумела Роднянская ослепнуть? – А она не ослепла. Она смотрит в суть. Суть же в том, что Эпштейн просто бездоказательно разок-другой заявляет, что как религия устремлена к Абсолюту, к Богу, так авангардизм – к... тому, что Богу в искусстве соответствует. Фактически же Эпштейн доказывает антиидеальную направленность авангардизма. И когда подцепляет к такому «антиискусству» те или иные религиозные аналогии, то внимание наше обращает на «отрицательное» в них: в юродстве, в апофатической теологии, в эсхатологии, в религиозном покаянии.
О покаянии и эсхатологии
Возьмем очень логичные рассуждения Эпштейна о «Мусорном романе» и «Мусорном человеке». Чем их кончил Эпштейн?
«И вдруг в сердце этого мусора пропечатывается библейское «прах ты и в прах вернешься» [«Бытие», 3, 19]. Ничтожеством своим это концептуальное создание [произведение Ильи Кабакова, то
С. 75
бишь] заставляет униженно пережить ничтожество собственной жизни, и если какой-то последующий жест оправдан, то – стукнуться лбом об пол, зарыдать и взмолиться: «Помилуй, Господи!» Ибо ничего, кроме праха, из жизни своей человек не производит, ведь и сам из него состоит.
Тема мусора приобретает у Кабакова глубоко эсхатологический смысл – как прощание с пыльной материальностью мира. Вся жизнь, переполняясь малозначащими подробностями, становится одной из них – легко отлетающей пушинкой».
Подцепляется – вы прочли – эсхатология и христианское покаяние.
Возьмем покаяние.
По-моему, из противочувствия, устроенного Кабаковым: «ничтожество – значимость» – не возвышение (по Выготскому) чувств происходит, а, так сказать, понижение – вполне декадентская потеря идеала.
Но пусть, – как обман зрения, как обман чувств, – у религиозного зрителя-читателя произведений Кабакова и возникает возвышение чувств – христианское покаяние в ничтожестве тварной своей жизни. Так ведь это имея ж в виду, что всю жизнь плевал на христианство, утверждающее двусоставность человека из материальной и духовной природы. За наплевательство надо каяться, а не за ничтожество своей материальной природы. За ничтожество материальной природы – что каяться? Она такова. Кайся – не кайся – ее не изменишь. А вот за забвение духовной природы, своего родства с Богом – стоило бы. Но
С. 76
ведь тогда нужно бы вспомнить не то место Библии, где Бог гневается на Адама и Еву и изгоняет их, нераскаявшихся, из рая, какое вспоминает Эпштейн, а другое, например, из Экклезиаста: «возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» («Экклезиаст», 12, 7).
Если б, однако, Эпштейн поступил, как мне представляется: последовательно, – то в поле зрения любого его читателя (а не только взыскательного, как я) возник бы, как выражается Роднянская, идеальный полюс.
Но этого-то Эпштейну не нужно. Он же обосновывает идею антиискусства. А для нее нужно, чтоб идеальный полюс как можно меньше замечался.
И если мне скажут, что я не понял эпштейновского намека, недоговоренности, то я возражу: во-первых, не дело критика – намеки, его дело – прояснения, во-вторых, не зря он именно в том месте применил намек и недоговоренность (если это они), где прояснение было чревато идеальным полюсом, коль скоро в ассоциации – религия.
Возьмем теперь подцепленную Эпштейном к Кабакову эсхатологию. Да, εσχατοζ это последний по-гречески. Да, это «совокупность представлений о конечной судьбе мира [внимание!], входящая составной частью во многие религии» (Краткий философский словарь). (Уже и в этом определении отмечено, что она – составная часть большего. Потом увидите, к чему это приведет.) А сама эсхатология, оказывается, подразделяется на индивидуальную и всемирную. Индивидуальная – учение о загробной жизни единичной человеческой души. Уже в этой связи скажите, пожалуйста, какое к эсхато-
С. 77
логии имеют отношение произведения Кабакова «Мусорный роман» и «Мусорный человек»? У него ж кроме пыли ничего не остается от человека. В эпштейновских «намеках» тоже ничего нет о душе и загробной жизни.
Идем дальше. Индивидуальная эсхатология у христиан (а надо думать – христианство имеет в уме Эпштейн, когда сравнивает авангард с религией), – индивидуальная эсхатология становится частью всемирной. Определение же всемирной таково: это учение о цели(!) космоса и истории, об их конце и о том, что за этим концом следует(!). Целая сверхистория следует! А что об этом у Кабакова и Эпштейна? – Ничего.
Оба, наверно, атеисты в душе. И работали они (пока, по крайней мере), пожалуй, имея в виду большинство в стране, т. е. атеистов. У атеистов же с эсхатологией и апокалипсисом (его тоже поминает Эпштейн, правда, не в связи с Кабаковым: авангард, мол, это апокалиптический реализм) ассоциируются только конец света, Страшный суд. А ведь Страшный суд это не только вечные адские муки еретикам и непокорным. Страшный суд для верующих есть еще надежда на восстановление попранной справедливости, и еще – райское блаженство для терпеливых и покорных. В исламе же даже адские муки не вечны. Не зря, в общем, это религии спасения. И от них умиротворением веет, а не ужасом и разочарованием.
О возведении исключения в юродстве в правило
И я опять вынужден согласиться с Роднянской:
«Подлинное же, плодотворное раскаяние невозможно без знания идеала, без сопоставления себя, недостойного, с ним – мысль, которой Эпштейн противится с нечеловеческим, я
С. 78
бы сказала, упорством».
Упорство, однако, у Эпштейна обосновано. Как я уже писал, в авангарде, как и юродстве, под действием потребности выступить в конкретных безнадежных обстоятельствах очень активно – очень сильно ощущение (может, подсознательное) ложности выхода; над ними довлеет практическая безнадежность, практическая бесперспективность. «Лучший способ защиты – нападение» – это для на что-то практически все же надеющихся. А для практически не надеющихся нападение тоже лучший способ, но не защиты, а истерики. Юродство практически выглядит, как безверие (случай с Василием Блаженным – исключение: Василий взбунтовался и тут же победил). Авангардизм практически выглядит, как декадентство. И то и другое – бунт бессильного не во имя победы, иными словами – нигилизм. И потому Эпштейн так (по сути) тянет авангард к отрицанию. Нечеловечески, как замечает Роднянская.
Попутно: о лжи критика Эпштейна – Роднянской
По-человечески было б – по-прежнему: «вполне подходящим «метафизическим» трамплином служил [для объяснения авангарда] набор леворадикальных анархических фраз»,– как ехидно колет Роднянская. Замечаете: Роднянская иронически относится к левореволюционным анархистским фразам. Естественно. Ведь к отрицательному полюсу левореволюционных фраз положительным полюсом окажется просто революционная и не фраза, а дело. А это сейчас не модно. Мода сейчас на религию, дань которой и отдал Эпштейн. Да неловко. Роднянской хотелось бы, чтоб без неловкости. Она Эпштейна потому и поколотила: не поминай, мол, имя Божие всуе; семь раз отмерь, преж-
С. 79
де чем нечто прорелигиозное отрежешь, напишешь.
Но время-то – суетное, хаотическое. Вот Эпштейн и пользуется. Вот его и напечатал даже журнал относительно несуетной – «Новый мир» N°12-88 (и все-таки достаточно суетной, чтоб устами третейского судьи, Роднянской, отстраниться от революционного прошлого страны и от современного тому прошлому искусства).
О «положительном» авангарде
В суете многое успевает проскользнуть...
Чтоб сосредоточиться на «отрицательности» авангарда и не быть разгромленным профессионалами, Эпштейн – вы уже прочли – разделил авангард на два направления, соответствующие «утвердительной», катафатической, и «отрицательной», апофатической, теологиям. И главное внимание он уделяет второй, впрочем, и в первой, «утвердительной», интересуясь больше все же «отрицательностью». Но один раз он дошел и до «положительности» авангардиста-богозащитника.
Сначала, однако, что это за «положительный» авангард?
«Авангард 10-20-х годов – экспрессионизм, футуризм, конструктивизм, супрематизм – был преимущественно катафатичен в том смысле, что пытался позитивно запечатлеть какие-то высшие эманации Духа (как в поэзии А. Белого и Хлебникова или в живописи Кандинского и Малевича...
[Ответ на мой вопрос мне ясен, но я себе позволю чуть продлить цитату.]
... Но утопизм раннего авангарда был скомпрометирован и отброшен именно опытом
С. 80
реализации этих утопий в самой исторической практике, которая обнаружила ужас и убожество тех «высших реальностей», к буквальному воплощению которых – в этике и онтологии мистического коммунизма – призывали Маяковский и Малевич».
Я не буду упрекать Эпштейна, что атеистические коммунистические «высшие реальности» он уподобил религиозным, теологическим (катафатическим). Я и сам так считаю: и то и то – из области высокого, духовного. И чтоб эту опасно немодную тему не развивать, Эпштейн больше ни разу не вернулся к «утвердительному» авангардизму. Но от жадности, еще на подступах к разделению авангарда на два подвида, он самого Маяковского впутал хоть в «утвердительную», но прорелигиозность. Уж кого-кого, а Маяковского б в стороне лучше оставил бы Эпштейн со своей загоревшейся привычкой подпевать религии. Так нет:
«Многое в богоборческих элементах авангардистского сознания можно было бы объяснить сознательной или бессознательной борьбой с идолопоклонством. Даже такие эпатирующие заявления у раннего Маяковского: «Я думал – ты всесильный божище, а ты недоучка, крошечный божик... Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою отсюда до Аляски!» – никак нельзя отнести по ведомству «научного атеизма»: во-первых, потому, что борьба с Богом предполагает признание его живым (вспомним борьбу Иакова с таинственным незнакомцем), во-вторых, потому, что герой обнаруживает свою причастность
С. 81
к смыслу веры через принесение себя в жертву: «я – где боль, везде: на каждой капле слезовой течи распял себя на кресте». »
Не намутил ли Эпштейн и тут? – Боюсь, что намутил.
Это – о строках из «Облака в штанах» рассуждает Эпштейн. А в поэме такая широта и многообразие тем, что цитатным способом можно проиллюстрировать что угодно. Маяковский бросается с пятого на десятое, в прямые противоположности его швыряет. И это понятно: лирический герой поэмы вне себя, как та поэтесса-по-Рериху, на выступлении которой испортился проектор. По фабуле «Облака» лирического героя поэмы бросила любимая (а прототипа – Маяковского – Мария Александровна Денисова), и он рвет и мечет, то думает о себе как о богоравном и все вокруг презирает, то совсем теряет себя и унижается. И, казалось бы, прав был Эпштейн, когда для иллюстрации юродства авангарда процитировал из этой же поэмы строки про Голгофы аудиторий Петрограда, Москвы, Одессы, Киева (помните?).
Но в том-то и дело, что как ни нарывался, вроде, Маяковский на скандал своими отрицаниями «вашей любви», «вашего искусства», «вашего строя», «вашей религии» (так он раз определил части тетраптиха «Облако в штанах»), он ради «нашего», ради идеального полюса, хочет быть услышан совсем не «нашими». Во вступлении к тетраптиху видно, к какого сорта публике он обращается своей поэмой:
Приходите учиться
-
из гостиной батистовая,
чинная чиновница
ангельской лиги.
С. 82
И рассчитывал он, что будет понят – в каком-то далеком будущем, может, сверхбудущем:
Крик последний, –
[обращается он
к собственной поэме]
ты хоть
о том, что горю,
в столетия выстони!
Такими словами кончается первая часть, и лишь дальше начинаются собственно отрицания и утверждения, которыми – можно думать – автор укрупняет страдания своего лирического героя, отвергнутого женщиной, до страданий масс и за массы, чем – опять можно думать – придает «крику» своему вековую значимость. И если б так только и было, то не годилось бы мое предположение о сверхбудущем прицеле поэмы.
Но посмотрите, чем кончается последняя, четвертая часть:
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!
Глухо.
Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд
огромное ухо.
Казалось бы, совсем как у Тютчева в «По дороге во Вщиж». Но нет. Спит – значит, может и проснуться, можно разбудить. А для этого нужна, грубо говоря, передача информации в сверхбудущее. А через кого? А через немудрящих чиновниц. Они передадут –
С. 83
опять извиняюсь за грубость – из поколения в поколение скандальные вирши поэта, передадут за его якобы всеотрицание, а просочится через века – и утверждение. Это как Гамлет просит друга Горацио не кончать жизнь самоубийством после его, Гамлета, смерти, через минуту-другую (чтоб уйти из этого мерзкого мира), а сперва рассказать мерзкому миру истинную подоплеку всего, что случилось в Эльсиноре.
...и не было ни
одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»
Но мне –
люди,
и те, что обидели, –
вы мне всего дороже
и ближе.
Видели,
как собака бьющую
руку лижет?!
И пусть меня упрекнут, что я тоже выдергиванием цитат пробавляюсь, но у меня цитат побольше, чем у Эпштейна. Сходимость есть анализа! Так что я смею заметить, что последние процитированные строки объясняют и в общем понятность Маяковского (не сравнить с хлебниковским «Бобэоби...»), и даже название поэмы, «Облако в штанах».
Читаем:
Нежные
Вы любовь на скрипки
ложите.
С. 84
Любовь на литавры
ложит грубый.
[К нежным он обращается;
о грубых разговор в третьем лице.]
А себя, как я,
вывернуть не можете,
Чтоб были одни
сплошные губы!
Приходите учиться
–
из
гостиной батистовая,
чинная чиновница
ангельской лиги.
И которая губы
спокойно перелистывает,
как кухарка страницы
поваренной книги.
Хотите –
буду от мяса бешеный
–
и, как небо, меняя
тона –
хотите –
буду безукоризненно
нежный,
не мужчина, а
– облако в штанах!
Дамский угодник – иными словами. А давно известно, что художественность лучше всего проверяется на дамах. А дамам в то время («Облако в штанах» написано в 1915 году) было угодно и перчику (бешенства) и нежности. Но Маяковский был бы Северяниным (на которого тут, в поэме, автор публично плюет), если б только угодником публики и был.
Он проповедует огромные вещи. Потому первое название поэмы – «Тринадцатый апостол». Оно было зачеркнуто царской цензурой. Но сама-то проповедь осталась. А проповедуют – кому? Еще не приобщенным. И для достижения цели – все средства хороши: и угождение, и издевательства.
С. 85
Издевательства – от отчаяния, от глухоты той вселенной, которую он хочет пронять. Конфликт, конечно, житейски безнадежный. И в силу его – похожесть лирического героя, да и, собственно, автора (между ними почти нет дистанции, как и подобает лирике) – на юродивого.
Но поскольку нет окончательной безнадежности, поскольку есть вера в сверхбудущее, есть идеал, – постольку остается и художественность.
Вот почему художественная революция в поэзии, произведенная Маяковским, столь очевидна для многих, если не для всех.
В разные этапы, – пишут доброжелательные исследователи поэтического языка ХХ века, – отмечаются разные тенденции: одна состоит в расподоблении поэтического языка и практической речи, вторая – в том, что поэтический язык стремится к сближению с разговорной речью. В революционное время преобладать должна вторая тенденция. Маяковский в ней и отличился. Многообразно.
Например. Вы помните, что он добивался рваного ритма в своих стихах: отдельно взятый стих его зачастую неосознаваем как стих. Но у Маяковсого получилось, что нет худа без добра:
«Справедливы слова Р. О. Якобсона: «Маяковский освобождает [слово] от прокрустова ложа ритмической инерции силлабо-тонического стиха...», «... стих Маяковского, не знающий в силу своих ритмических особенностей тесных словесных групп, объединенных смыслом, ударением, декламируется так, как если бы все слова связались между собой впервые» »
С. 86
(«Очерки истории языка русской поэзии ХХ века»).
Чем не здорово!
А все – от наличия идеала, положительного полюса. И вот это-то положительное (смотри текст поэмы) и взвело на Голгофы аудиторий... А не желание быть оплеванным и обруганным ненавистными неверующими в его идеал.
« «Облако в штанах»... считаю катехизисом сегодняшнего искусства»,– справедливо писал Маяковский.
В чем же его идеал искусства? В сближении искусства с жизнью масс.
Пока выкипячивается,
рифмами пиликая,
из любвей и соловьев
какое-то варево,
улица корчится
безъязыкая –
ей нечем кричать
и разговаривать.
Но как Пушкин, гонимый светом, вынужден был все же вращаться в нем и писать для него, так и Маяковский не мог не обращаться к мещанам, к богеме и к слоям общества повыше, ибо тем, кто пониже, было не до искусства в том капитализме, в то предреволюционное и военное время.
Впрочем, это и спасло Маяковского как художника. Потому что когда после революции он получил возможность обращаться к массам, к низам и (на короткое время) быть вроде бы понятным ими (в агитчастушках, в заборной литературе, в спектаклях-митингах, в спектаклях-демонстрациях), то это был уже путь из высокого, идеологического, искусства – в прикладное и вообще в неискусство: в публицистику, в политику – в жизнь. А искусство – не жизнь. И нельзя безболезненно для первого очень уж сближать его со вторым. А то, что его вроде бы понима-
С. 87
ли, – так то было заражение чувствами и без футуристов наэлектризованной революционной массы. То было заражением чувствами, а не (по Выготскому) возвышение чувств – катарсис.
И, еще раз, то был путь (а в «Облаке в штанах» еще только призыв) – в конечном счете – в неискусство, а не в антиискусство, выдуманное если и не Эпштейном, то Эпштейном «теоретически» выводимое и утверждаемое в качестве существующего.
Антиискусства в природе нет. Искусство или есть, или его нет.
Отрицание верой, – говорит Эпштейн, – это жест юродивого, это антиискусство. А я говорю, что жест юродивого это уже неискусство, это способ воздействовать на неверующих не непосредственно и непринужденно (как искусство), а непосредственно и принуждающе (как жизнь: спровоцировать переругивание с аудиторией в процессе чтения стихов про Голгофу аудиторий, что, впрочем, не относится к поэме «Облако в штанах»). И «Облако в штанах» – не жест юродивого, не антиискусство. Маяковский его б только эстрадно и читал, и, пожалуй, не напечатал бы, если б сам расценивал его только как дразнилку, а не как крик на столетия.
И как поступок Василия Блаженного, рассчитаный на безусловную немедленную победу (а не на немедленное поражение), являясь исключением в юродстве, не должен был бы привлекаться Эпштейном для аналогии с антиискусством, так и ссылка на Маяковского как на борца (а ля Василий Блаженный) против идолопоклонства – ляпсус.
«Можно было бы», – осторожничает Эпштейн, –
С. 88
объяснить по виду богоборчество Маяковского борьбой за единобожие (против идолопоклонства). Можно было бы... Да еще бессознательно, мол, это происходит у авангардистов.
Подстраховался Эпштейн. И не зря. Потому что нельзя объяснить так, как «можно было бы».
У Маяковского даже по виду не богоборчество, а простое богохульство, рассчитанное на чинных чиновниц между двумя революциями (1905-го и грядущей), рассчитанное на моду на перчённое. Не потрафишь – не проймешь.
...Я тебя, пропахшего
ладаном, раскрою`
отсюда до Аляски!
Пустите!
Меня не остановите.
Вру
я,
вправе ли,
но я не могу быть
спокойней.
Смотрите –
звезды опять
обезглавили
и небо окровавили
бойней!
Не только милая бросила – мировая война идет, и не во имя идеалов ни с какой из сторон («звезды опять обезглавили»), и жертвы на ней непомерные («и небо окровавили бойней»). Как тут не прокричать, хоть и безответно (революции-то все-таки нет, а он к ней уж не один год взывает:
...в терновом венке
революций
грядет шестнадцатый
год.
С. 89
А я у вас его предтеча.)
Как не прокричать пусть и пустую («вру я») угрозу, да не идолу-божику, а мироустройству, богу, которые – оба – будут упразднены революционерами-атеистами, и бог станет божиком, если революция таки грядет и победит в России («отсюда и до Аляски»).
Маяковский и его лирический герой вполне осознанно пока сотрясают воздух и не более. А Эпштейн «мог бы» объяснить это неосознанной борьбой за единобожие. Бы да кабы – так во рту росли б грибы...
Или эти эпштейновские намеки:
«...борьба с Богом предполагает признание его живым (вспомним борьбу Иакова с таинственным незнакомцем)...»
Благоверный Иаков боролся, потому что ночью на него кто-то напал. А он ожидал нападения Исава. И все. Иаков при этом и не знал, что с Богом борется. Нельзя привлекать этот библейский образ для иллюстрации богоборчества. Да и вообще, разве это не смешно: риторическое обращение героя к Богу как к живому существу интерпретировать как монотеизм автора, да такой монотеизм, который предполагает, что Бог, услышав вызов, для борьбы и сам и вместе с небожителями материализуется в существа, потенциально подверженные смертельному воздействию сапожного ножа лирического героя:
Всемогущий, ты
выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого
есть голова, –
отчего ты не выдумал,
С. 90
чтоб было без
мук
целовать, целовать,
целовать?!
Я думал – ты всесильный
божище,
а ты недоучка,
крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный
ножик.
Крылатые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошите перышки
в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего
ладаном, раскрою`
отсюда до Аляски!
Ну, не смешон ли Эпштейн с его намеками?
Или вон тот намек: Маяковский, мол, чужд научного атеизма, ибо его герой обнаруживает причастность к смыслу веры через принесение себя в жертву.
Что: террористы эсеры, революционеры социал-демократы, приносившие себя в жертву грядущему лучшему будущему, – тоже чужды были атеизму? Научному... Или рабочие-красногвардейцы в революцию и гражданскую войну – с их коллективизмом и жертвенностью во имя общего дела?..
Фу, Эпштейн, – можно сказать.– Вы ж не на митинге своих, которые проглотят все, чем вы им ни надумаете потрафить.
Вот такую а ля катафатическую утвердительность футуризма продемонстрировал нам Эпштейн.
Практически утвердительности у футуризма-авангарда, т.е. у скандала – нет. Она есть у футуризма-не-авангарда, т. е. у маньеризма начала ХХ века,
С. 91
называющегося футуризмом.
Об экспрессионизме, в частности
Можно бы возразить Эпштейну еще. Если поверить ему, что авангард начала ХХ века «пытался позитивно запечатлеть высшие эманации Духа», то почему как катафатический включен в авангард экспрессионизм?
Экспрессионизм, этот давящий на чувство, на подсознание почти невразумительный вопль («Боже! Зачем ты меня оставил?», «Граждане! Впереди конец света!»), отрицательно относясь к потере Бога и веры в сверхбудущее, действительно, получается, через отрицание отрицательного – утверждает Бога и сверхбудущее. Но разве это «позитивное запечатление»? Это негативное. Противоположное катафатическому (если поверить, что катафатический авангард существует в качестве просто или анти-, но искусства). Т.е. экспрессионизм – это апофатический авангард (если поверить, что и тот существует в упомянутом качестве).
На самом же деле такой экспрессионизм, чем он более внятен, тем он, по-моему, ближе к еще одному виду маньеризма ХХ века, называющемуся (жаль) тоже экспрессионизмом и являющемуся (все учтено!) идеологическим искусством высокого толка, родственником символизма. А чем он, мол, авангардный, менее внятен, чем более он представляет собой ужасный неопределенный потрясающий вопль, тем он ближе к неискусству, только не авангардного тона, а декадентского. Тем он ближе к ужасным руладам стона человека, потерявшего все святое и никаким отрицанием отрицательного ничего не утверждающего, ибо
С. 92
уж больно неопределенен его вопль.
Об «отрицательном» авангарде – концептуализме, мол, героя «Подростка» Достоевского и его гипотетического иллюстратора Э. Булатова
И вообще возразить можно Эпштейну, что подразделение авангарда на как бы катафатическое и как бы апофатическое вряд ли верно. По крайней мере такое подозрение дополнительно возникает при рассматривании той суммы произведений, на которых базируется Эпштейн, теоретизируя о как бы апофатическом авангарде.
Тут надо особо оговорить, что приступив к теоретизированию об апофатическом, так сказать, авангарде, Эпштейн (в отношении советских художников и художников, выходцев из СССР) стал концептуализмом называть соц-арт.
Первым из таких «произведений» он разбирает придуманное им творение Э. Булатова, если б тот нарисовал навязчивую грезу одного из героев Достоевского о Петербурге:
«Мне сто раз, среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй для красы, бронзовый всадник на жаркодышащем, загнанном коне?" »
Эпштейн так разбирает это представимое у Булатова произведение:
«...Россия очень многим в своем укладе обязана влиянию чужеродных культур – но в этом, как ни парадоксально, и проявляется ее
С. 93
склонность к авангардному мышлению, забегающему в область неставшего, невозможного, несуществующего.
Петр приказал России образоваться, чтобы были газеты, заводы, университеты, академии, они и появились, но в формах искусственных, не способных скрыть свою умышленность, приказной порядок возникновения. По сути, мы имеем дело с... характером цивилизации, составленной из правдоподобно выписанных этикеток: это – «газета», это – «академия», это – «конституция»; но все это не выросло естественно из национальной почвы, а было насажено сверху... Слишком многое шло от идеи, от замысла, от концепции...
Грандиозным концептом, отчасти предопределившим судьбы российской культуры нового времени, был, конечно же, сам Петербург – европейская столица России, воздвигнутая на «чухонском болоте». «Петербург – самый умышленный город на свете», – писал Достоевский...[и] состоит из каких-то вымыслов, умыслов, бредов и видений, хмарью поднявшихся над гнилой, непригодной для строения почвой.
Зыбкость была заложена в самое основание имперской столицы, ставшей впоследствии колыбелью трех революций. Осознание ее нарочитости, «идеальности», так и не обретшей под собой твердой почвы, породило один из первых... словесных концептов – у Достоевского [бронзовый всадник над болотом].
С. 94
[Концептуализму, по Эпштейну, а по-моему, так соц-арту]... недостаточно показать, что «земной град», пышно и горделиво вознесшийся на болоте, – это хмарь и призрак, прикрывающий доподлинную реальность самого болота...
Многие... реалисты... по традиции просто критические – ограничивают себя именно этой задачей: показать болото, на котором все мы живем, и доказать, что оно неумолимо затягивает нас в свою пропасть, прорываясь то стихийными бедствиями, то потрясением социальных основ. Концептуалисты же [соц-артисты, по-моему] делают неприличную вещь: не только показывают нам трясину под испарившимся городом, но и втыкают в нее священный обломок этого города, фигуру основателя, на челе которого навеки застыла градостроительная дума.
К чему же эта концептуальная [соц-артистская] вольность, непочтительная шутка? А пожалуй для красы! Такова эстетика концептуализма [соц-арта], показывающая реальность одних только знаков в мире призрачных реальностей... Не таков ли архетип... нынешней цивилизации [социалистической, вероятно, имелось в виду], ознаменовавшей себя величайшими проектами и утопиями в истории человечества...»
Такой утопии как справедливое «тысячелетнее царство божие на земле» Эпштейн не хочет отдать пальму первенства. Ясно. Он же прорелигиозность авангардизма нынче обосновывает. Причем не унизить
С. 95
авангардизм хочет, а возвысить до уровня антиискусства (по модулю, так сказать, равного искусству). А чтоб возвысить – сойдут, в частности, и модные положительные ассоциации со всем, что относится к религии. И умолчать, конечно, надо о всем отрицательном, что ассоциируется с религией же. Ничем нельзя брезговать для продвижения своей идеи. Так? Так. Вот Эпштейн и не брезгует. А если не все у него – от сознания, а что-то еще и от чувства, то, значит, талантливо вжился он в роль апологета религиозности.
Но это к слову... Продолжим.
«...Заслуга концептуальности [соц-арта] в том, что она осознает и выставляет на обозрение эту этикеточную природу, которую тщательно скрывали «идейность» и «плановость», пытаясь выдать за свойства самой действительности, законы истории. Концептуальность [соц-арт] – та стадия развития идейности, когда она... обнажает... искусственный и насильственный, поддельно-нарочитый характер.
Концептуализм [соц-арт] – это критика не столько определенной идеологии, сколько идеологизма вообще».
Смешно читать. Будто учение о «естественности, органичности развития» (не к нему ли подспудно тянет Эпштейн?) не является такой же идеологией, как учение о «скачкообразности развития, переходе количества в качество, о революциях как локомотивах истории» или как учение о «чередовании эволюций с революциями».
Ну, простим Эпштейну. Он в полемическом раже.
С. 96
Он ведь не разбирается, а пробивает свое. (Как и я, впрочем.)
Но это опять к слову.
Плохо, что обобщенный отрицательный замысел нынешнего концептуализма [соц-арта] Эпштейн вывел из, строго говоря, единственного произведения, словесного, «произнесенного» героем «Подростка» Достоевского.
Эпштейн, правда, пытается авторитетность автора этого «произведения» повысить до авторитетности самого Достоевского:
«У писателя [Достоевского] есть несколько вариаций на тему этого видения [уход Петербурга в небытие], глубоко его поразившего, в том числе от первого лица, – в «Слабом сердце» (1848г.), в «Петербургских сновидениях в стихах и прозе» (1861г.), в наброске к «Дневнику писателя» (1873г.)».
Ну, что? – Эпштейна нельзя оставлять без проверки. Смотрим с конца.
В 21-м томе Полного собрания сочинений Достоевского, в разделе «Подготовительные материалы...» есть «Дневник писателя. 1873», где в главе «Влас. «Смятенный вид». Черновые наброски» действительно напечатана фраза, напоминающая о нарочитости Петербурга:
«Петровский период закончен юбилеями.
Через 200 лет оказывается, что народ не принял жизни Петровой, а ко всем желавшим принять ее, к нам то есть, она сама не принялась».
Но. В том же томе в примечаниях к «Власу» чис-
С. 97
тового «Дневника писателя. 1873» аргументировано замечено, что у Достоевского был даже очень идеальный полюс в отвергании «птенцов гнезда Петрова», реформ Петра, «петербургского периода» и тому подобного. Достоевский считал, что с отменой крепостного права вышеназванное, навязанное России, западное, изначально прокапиталистическое влияние кончается и есть возможность ей вернуться на самобытный, утраченный путь развития.
Какой?– спросил бы я Эпштейна, если б мог. Ответьте сами, читатель. Только помните, что тогда многие уповали на крестьянский социализм, основываясь на коллективистских традициях сельской общины в России. А сам Достоевский к тому времени «исповедовал» «почвенничество» и «религиозный социализм». Заметьте: вариант того уклона, против которого изгаляется Эпштейн своей апологией концептуализма, призвав в союзники... Достоевского.
Переходим дальше, вспять по эпштейновскому списку – к «Петербургским сновидениям в стихах и прозе» (1861). Это действительно от первого лица написанная Достоевским статья для журнала, издававшегося братьями Достоевскими. И там действительно есть «видение», чуть не дословно переписанное из «Слабого сердца». Но. В этом произведении Достоевский занимался «переосмыслением романтической традиции», и «оно подводило в какой-то мере итог сделанного в докаторжный период» (слова из примечаний к то`му полного собрания сочинений).
«Видение»-то он переписывает, но потому, что с ним связывает конец некого этапа в своем творчестве, романтического, можно понять, который завер-
С. 98
шался в то время, когда была написана повесть «Слабое сердце». Поэтому сразу можно переходить к ней.
«Повесть создавалась в период увлечения писателя идеями утопического социализма». Это опять слова из «Примечаний». А от себя – в пику – добавлю: напечатана она в 1948 году, в год революций во всей Западной Европе и за несколько месяцев до таких биографических фактов, как: 1) сближение со Спешневым, прямым революционером и подпольщиком, и 2) шаги на пути к нелегальной деятельности.
Романтика и революция – близнецы-сестры. А крах революции или его предвидение вызывает чаще всего и конец романтического периода.
Вот этот-то момент и описан в «видении».
Прототип главного героя, Васи Шумкова, – литератор-самородок бедный мещанин Бутков, которому редактор Краевский купил рекрутскую квитанцию под выплату Бутковым ее стоимости в счет гонораров в рассрочку. Тем Краевский спас Буткова от армии и приобрел литературного пролетария.
Нет, в повести никто Васю не перегружает. Начальник к нему благоволит. Работу дает ему сам, не через начальников рангом пониже, и Вася работает дома, что удобнее. Подарок к Новому году подарил ему начальник от себя лично. Вообще все у героя складывается как нельзя лучше. У него отличный товарищ – сожитель по комнате и сослуживец. Вася влюбился и любим. Маменька его избранницы тоже в нем души не чает и благословила на брак.
Вот только очень чувствителен Вася. Он кривобок. Любовь и взаимность – это уж, кажется ему,
С. 99
чрезмерное благо для такого маленького человека. Он несколько недель не мог работать, нервничал – каково будет отношение к его признанию в любви? Затем – будет ли принято его предложение руки и сердца?
В результате – работа завалена. Он это таит ото всех.
Таковы события, предшествующие собственно сюжету.
А сюжет – как радуется его товарищ, Аркадий, счастью Васи, узнав, что тот женится; как они покупают Лизаньке, невесте, новогодний подарок; как Вася знакомит Аркадия с Лизой и ее маменькой; как все рады; как Аркадий мечтает жить коммуной – все деньги в одни руки, Лизаньке. А затем – как измученный непомерным счастьем (когда кругом столько несчастья) и чувством вины перед добрым начальником Вася... сходит с ума. Да. Пишет без чернил, боится, что отдадут в солдаты за срыв срока...
Трагедию предчувствуешь задолго до развязки. Слишком уж надрывно переживается счастье и Васей, и Аркадием, и Лизой, и маменькой. Особенно – Васей. Слишком оно невероятно и хрупко. Видимо, слишком жесток мир для маленьких людей, хоть признаки этой жестокости еле угадываются по нескольким намекам.
И вот рок взял свое. Васю со службы увезли в сумасшедший дом. Потрясенный Аркадий возвращается к себе...
«...Подойдя к Неве, он остановился на минуту и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую
С. 100
последним пурпуром кровавой зари, догоравшей в мгляном небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз в двадцать градусов. Мерзлый пар валил с загнанных насмерть лошадей, с бегущих людей.
Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе... Казалось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами – отрадой сильных мира сего, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к темно-синему небу. Какая-то странная дума посетила осиротевшего товарища бедного Васи. Он вздрогнул, и сердце его как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива какого-то могучего, но доселе не знакомого ему ощущения. Он как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего сошел с ума его бедный, не вынесший своего счастия Вася. Губы его задрожали, глаза вспыхнули, он побледнел и как будто прозрел
С. 101
во что-то новое в эту минуту...»
Надо признать, что у Достоевского кое-где двусмысленность. Что «в свою очередь тотчас исчезнет и искурится»: 1)»весь этот мир» с его несправедливыми контрастами или 2) мечта-сон, в котором из тепла «новый город складывался в воздухе»?
Думаю, действительны обе версии. Это ж описание смутных переживаний. И потом: обе не так уж отрицают одна другую, если предположить самое естественное – что они следуют друг за другом. Действительно, город курился колоссально. Могло показаться, что он искурится дотла. Но кажимость – сама преходяща, мимолетна.
Подтверждением третьей, «последовательной» версии являются во многом разные и описанные одно за другим проявления душевных движений Аркадия. Сперва, – соответствуя великанам теплым дымам, уничтожающим неправый мир, – «сердце его как будто облилось... горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива какого-то могучего... ощущения». Потом, – соответствуя исчезновению кажимости, – «губы его задрожали... он побледнел».
Но если даже нарочно мной пропущенное во втором моменте «глаза вспыхнули» ликвидирует второй момент как таковой, сводя его к первому, так сказать, героическому, то следующий абзац (последний в повести), уж точно пораженческий, соотносится с исчезновением героической грезы.
«Он сделался скучен и угрюм и потерял всю свою веселость. Прежняя квартира стала ему ненавистна – он взял другую. К коломенским [к Лизаньке с маменькой] идти он не хотел,
С. 102
да и не мог. Через два года он встретил Лизаньку в церкви. Она была уже замужем; за нею шла мамка с грудным ребенком. Они поздоровались и долгое время избегали разговора о старом. Лиза сказала, что она, слава Богу, счастлива, что она не бедна, что муж ее добрый человек, которого она любит... Но вдруг, среди речи, глаза ее наполнились слезами, голос упал, она отвернулась и склонилась на церковный помост, чтоб скрыть от людей свое горе...»
Аркадий в повести проходит через (см. рисунок) четыре состояния: оптимиста с идеалом в настоящем («веселость») – №1, исторического оптимиста с идеалом в будущем (стихийный социалист-утопист, мечтающий о бытовой коммуне) – №2, исторического оптимиста с идеалом в ближайшем будущем (в героической фазе видения или просто во время видения, заставившего кровь вскипеть, а глаза вспыхнуть) – №3, и, наконец, четвертое состояние – человек без идеалов («он сделался скучен и угрюм») – №4. Последнее – с точки зрения Достоевского-автора, сверхисторического оптимиста – №5, ставшего таковым благодаря тому, что, как Аркадий, сам залетал в своей жизни во «второе» состояние и, на миг, в «третье». Лиза, и счастливая и несчастная одновременно, сочетающая в себе «низкое» (семейное удовлетворение) и «высокое» (любовь к Васе), перешла в, так сказать, шестое состояние – №6.
Все они, между прочим (но – и для сугубой ясности), располагаются на отрезке синусоиды логически плавного перехода мировоззрения в мировоззрение с инерционным вылетом с синусоиды сверх-
С. 103
вверх на месте
разворота «сверху» «вниз» и, там же,
с вылетом вообще вон из плоскости, так
сказать, где люди имеют идеал.
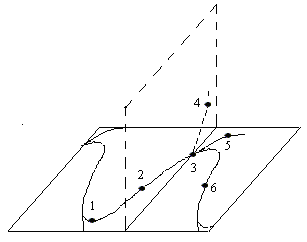
Три «как будто» вставил Достоевский в последние строки длиннейшего абзаца с видением: «сердце его как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови», «он как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего сошел с ума... Вася», «он как будто прозрел во что-то новое».
Смею заявить, что первое и третье «как будто» в минимальной степени оправдывают свое появление, а второе – в максимальной (психологически все это объясняется смутностью переживаний).
Кровь действительно, а не как будто, усиленно прилила к сердцу Аркадия. И он действительно, а не как будто, прозрел свое «четвертое» состояние. А вот Васю в самом деле лишь как будто он в тот миг
С. 104
«узнал» и «тревогу» в видении в самом деле лишь как будто в тот миг «понял» в качестве «доселе не знакомого ему ощущения».
Просто во время видения Аркадий всем существом своим вжился в мироощущение Васи. А Вася – это претворяемая в жизнь мечта и крах претворения, это активизм в деле улучшения мира (не меньше), начиная с себя (но только начиная), и крах активизма. Как революция! Как надорвавшаяся революция... Не зря, может, Вася – Шумков, а не Шумов или Громов.
Умом-то Аркадий неэволюционные устремления Васи понимал и раньше, что Вася подтвердил (а я подчеркну характернейшее):
«...чтоб не было даже и несчастных на земле, когда ты женишься; чтоб у меня, например, твоего лучшего друга, стало вдруг тысяч сто капитала; чтоб все враги, какие ни есть на свете, вдруг бы, ни с того ни с сего, помирились, чтоб все они обнялись среди улицы от радости и потом сюда к тебе на квартиру, пожалуй, в гости пришли... Потому что ты счастлив, ты хочешь, чтобы все, решительно все сделались разом счастливыми! Потому ты хочешь сейчас всеми силами быть достойным этого счастья и, пожалуй, для очистки совести сделать подвиг какой-нибудь!»
И еще раньше Аркадий предрекал Васе, что можно с ума спятить от такого максимализма и несоответствия ему в первую очередь самого же себя.
Все он давно понимал, Аркадий. И – увлеченный Васей до степени социалиста-утописта, но не революционера все же – он не без иронии указывал Васе
С. 105
его залеты.
Но во время видения Аркадий на миг как бы стал Васей и вскипел «от прилива какого-то могучего, но доселе не знакомого [Аркадию] ощущения. Он как будто только теперь понял...»
Повторяю, понял он давно, а пережил всем существом лишь сейчас, когда показалось, глядя на «всю эту тревогу», что весь Петербург, вся европейщина, весь олицетворяемый ими наступающий капитализм сейчас искурится, и «новый город» станет над «старым».
А искурилась-то – кажимость.
Самого Достоевского крах революции не сломил, не сломил даже арест, даже приговор к смертной казни, даже замененное наказание – каторга. Достоевский не Аркадий, не потому ли тот – Нефедевич (не Федя)? Достоевский вместо утопического социалиста стал христианским социалистом. И в самой зыбкости, приданной автором видению, этот ход собственного мировоззрения уже предчувствовался, может. Потому, может, и было видение переписано через тринадцать лет, при «переосмыслении романтической традиции». Тем более, что в негативной оценке скисшего Аркадия уже просматривался идеальный полюс.
В общем, опережая выяснение, что такое соц-арт, можно, в пику Эпштейну, сказать, что Достоевский породил не один из первых словесных концептов, а одно из первых произведений соц-арта.
К видению в романе «Подросток» я не перейду – это слишком далеко бы увело. Во всяком случае, когда Эпштейн про него пишет:
С. 106
«Картина, словно только что сошедшая с полотна художника-концептуалиста, вполне представимая, например, у такого мастера, как Э. Булатов», -
я думаю, что лучше бы разобрать действительную картину Булатова и потом делать из нее обширные выводы. А еще лучше – из нескольких конкретных картин нескольких авторов, называемых Эпштейном концептуалистами.
Наиболее краткая эпштейновская формула так им называемого концептуализма: «Нигилизм утверждает отрицание; концептуализм отрицает утверждение». Но ведь из такой формулы, совмещенной с «представимым» у Булатова произведением, можно сделать вывод совсем не в духе эпштейновского Великого-Отрицания-на-практике. Уж больно содержателен эпштейновский разбор «произведения» Булатова.
Что если это неспроста? Что если это как с Чюрленисом? Тот тоже не доверял (в письме, словами) прекрасным идеям, не соотносящимся, ну никак, со свинской жизнью. Общо не доверял. А картину за картиной создавал. И в них это общее сомнение не то, чтоб конкретизировалось, но давало интерпретаторам возможность вполне доказательно конкретизировать. И получалось, что он испытывал на прочность вот эту, вот эту, вот эту и так далее «прекрасную» идею, и они его испытание не выдерживали, а он продолжал, и продолжал, и продолжал искать и испытывать, – своеобразно, как художник, – искать путь в лучшее будущее, и не находить. А в итоге итогов получалось: «Не знаю, но не сдаюсь!»
Вот какой вывод естественно напрашивался из
С. 107
ультрасодержательности и в общем-то понятности чюрленисовских картин.
Приведенный Эпштейном пример тоже содержателен и понятен. И из нескольких таких примеров можно б вывести, что концептуалисты [соц-артисты], отрицая, и отрицая, и отрицая каждый раз вполне конкретные идеи, концепты, в конечном итоге всей суммой своих творений выразят тоже, мол, не знаю, но не сдаюсь. А в этом уже присутствовало бы сверхбудущее и благотворно влияло бы на понятность и содержательность. Вера в сверхбудущее, пусть неосознаваемая художником вполне, была бы для каждого такого произведения первопричиной этой понятности и содержательности.
Ну, конечно, такую мысль надо проверять на конкретных же произведениях, и не на одном.
Об «отрицательном» авангарде – концептуализме, мол, в действительно существующих картинах художников соц-арта
И я принялся искать репродукции вещей Э. Булатова, а заодно и Кабакова (раз и его Эпштейн называет концептуалистом).
Первое, что я нашел, это упоминание их обоих в обойме художников соц-артистов, а не концептуалистов (оттуда и пошли мои квадратные скобки вокруг соц-арта после каждого упоминания концептуализма Эпштейном). Что это за обойма? В.Комар, А. Меламид, Л. Соков, А. Косолапов, И. Кабаков, Э. Булатов.
В подборке статей и репродукций демонстрировались произведения первых четырех, но подробно разбирались лишь произведения первых двух: Комара и Меламида, работающих совместно. Вот я и попробовал вслед за авторами статей вглядеться и вчувствоваться в творения этой двоицы.
«Истоки социалистического реализма». 1982-1983 годы.
С. 108

С. 109
Ночь. Зал дворца в античном стиле, открытый во мрак и бесконечность. Сама вечность, как вечно оказалось античное искусство... Сталин, в парадном белом кителе и брюках, с единственной наградой на груди – звездой Героя Советского Союза – разрешил златокудрой полуобнаженной женщине, музе, посадить себя на ступени возле основания сдвоенных мраморных колонн так, чтоб тень от его профиля оказалась на этом основании. Сталин принял величественную монументальную спокойную и значительную позу, в левой руке его каноническая курительная трубка, лицу придал надмирное олимпийское выражение. Правой рукой, правда, он обнял витийствующую над ним музу за обнаженную спину (впрочем, именно обнаженную, а не голую, и покровительственно, а не как женщину – пальцы прямые, не сгибающиеся, виднеются из-за ее лопатки: просто положил ей ладонь на спину). Величественность позы от такого жеста должна была бы пропасть, но он, этот жест, почти незаметен, заслоненный точеным смуглым телом музы. Муза выбрала место для светильника, видно, на несколько сантиметров неудачно. Ей пришлось осторожно взять Сталина за подбородок правой рукой и то ли чуть приподнять, то ли чуть повернуть его голову – чтоб тень-профиль получилась на постаменте колонны получше. А левой рукой, указательным пальцем, она тщательно обводит эту тень-профиль. Запечатлевает?!. Для вечности?!. Никаких следов на камне, конечно, не остается. А Сталин замер, позируя.
Воплощение идеи бесплодности социалистического реализма дали Виталий Комар и Александр Меламид в
С. 110
1982-83 годах (а написана вещь в добротном классическом стиле, гладкописью).
Удивительно, как ее недопонимают доброжелательные критики соц-арта. Вот, например, что пишет о ней Маргарита Тупицина:
«...Комар и Меламид акцентируют главный стилевой признак этого течения, отождествляя истоки соцреализма с началом процесса мифологизации тирана. Освященный присутствием Музы, Сталин позирует для первого идеологического полотна. То обстоятельство, что эта (и многие другие) картина – в рамках строго выдержанного академизма реалистического образца, не только гармонирует с темой, но и подчеркивает ироничность».
А какое же тут первое полотно, когда рисуют-то Сталина явно на камне? Видны углубления в местах стыка каменных блоков. Одно, вертикальное, выходит из темени тени-профиля, другое, горизонтальное, – из-под ее подбородка, третье, опять вертикальное, Т-образно ответвляется от горизонтального углубления.
Но, может, муза просто на секунду подскочила к Сталину поправить ему постанов головы, а кто-то его рисует? Или, может, не на секунду, а надолго она на колено стала и секундно лишь исполняет указание художника о повороте головы Сталину, об постамент же с тенью она просто оперлась рукой, чтоб не упасть на Сталина, привлекающего ее своей дланью?
Нет, не думаю. Скорее подумаю, что муза левша и «рисует» сама. Вон и смотрит-то она не на Стали-
С. 111
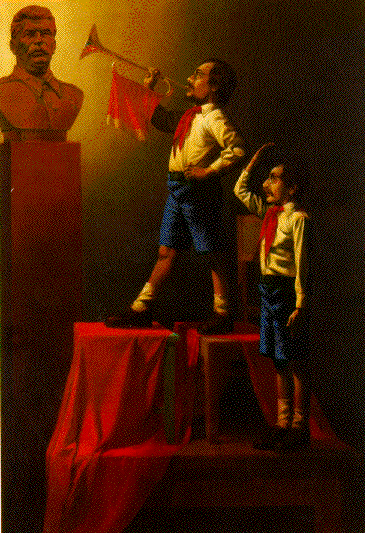
С. 112
на, а за его затылок, на его тень, на свою «рисующую» по краю тени руку.
Ситуация трагическая для обоих.
И я соглашусь с критиками, что и здесь и вообще соц-арт не карикатура, не цинизм, а скептицизм. И соглашусь с самой ссылающейся на авторов Маргаритой Тупициной, что по крайней мере соц-арт иммигрантского периода – не политический, а ностальгический.
Тупицина тут же и доказывает это, только на другой картине – «Двойной портрет в виде юных пионеров» (1982-1983гг). Дело в том, что в 1972 году, еще живя в СССР, Комар и Меламид сделали просто «Двойной портрет», изобразив себя на манер стереотипного профильного портрета «Ленин-Сталин», «замечательно, – как пишет Тупицина, – имитируя фактуру сталинских мозаик». А десять лет спустя, заграницей, они сделали совсем другой автопортрет:
«В более поздней картине художники изображают себя в окружении идеологических реалий их детства (они одеты в пионерскую форму с красными галстуками, рядом с ними бюст Сталина, они трубят в горны, собирающие пионеров на линейку). Здесь уже появляется дистанция между художниками и фигурой Сталина, чье изображение выходит за пределы обычной пародии».
Действительно, бюст и все. Его не очень ясно даже видно. Смеются художники над собою-детьми. Над своим рвением в исполнении своих формальных пустопорожних пионерских обязанностей – созывании пионеров на опять-таки пустопорожнюю линейку.
С. 114
Смотрите. Чтоб дальше было слышно (а дело-то – в помещении) «дети» залезли на стол. Один даже – на табуретку и стул, поставленные на стол. Чтоб торжественнее – на табуретку, стул и стол набросили красную скатерть. Чтоб перед самими собой (никого больше еще нет) выразить преданность, один вытянул, как по стойке смирно, левую руку, судорожно прижав пальцы к бедру (а один носок-то – приспущен), другой – горнист – картинно подпершись рукою в бок: чтоб больше воздуха взять в грудь и сохранить устойчивость (а стоит-то – сразу на двух стульях) – старается.
Но бюст Сталина-то во всех этих нелепостях замешан лишь косвенно.
И Тупицина продолжает:
«Таким образом, соц-арт в его иммигрантской фазе строится не на непосредственном столкновении с идеологическим материалом, не на создании комических и ниспровергающих «дубликатов» (как это имело место в случае московского соц-арта), но на дистанцировании, ностальгии и желании превратить национальную иконографию в аллегорию».
Аллегорию чего? Да беды нашей, советской – в данном случае, американской – в другом случае, еще какой-нибудь – в третьем.
Сделав в 1981 году «Портрет Рональда Рейгана в виде кентавра», – президента США на фоне мрачного ирреального пространства, почти буквально распоясавшегося, размахивающего красной материей (отмотанной частью его повязки-пояса на животе), вставшего на дыбы, – чем это было, как не очередной ус-
С. 115
мешкой над ситуацией «слепые ведут слепых», когда этот руководитель ведущей державы мира объявил СССР империей зла, и США и СССР катились к ядерному столкновению.
Что такое кентавр? Это трагическое существо со страстями животного, аллегорически выражаемыми телом коня ниже шеи, и с разумом человека, аллегорически выражаемым телом человека по пояс.
Не карикатура тут.
Да и в раннем (московский соц-арт?) «Двойном портрете» видна не только профанация риторики официоза, а и, – как правильно заметил Гарри Индиана по поводу соц-арта, – горечь осознания, что «культура, выправляющая собственную историю, порождает коллективную немоту». Сказано это, правда, по поводу прямых изображений Сталина, которые делались тогда соц-артистами в порядке нарушения «грозного зрительного табу» на его прежние бюсты и портреты, в том числе и двойные, с Лениным. Но нарушать же табу можно и косвенно: нарисовать себя аналогично портрету «Ленин-Сталин».
Всюду трагизм.
Вот потому я и думаю, что и в «Истоках социалистического реализма» он есть: и в, мол, пустоцвете-музе социалистического реализма, и в заблуждении Сталина относительно музы и себя.
Слепые ведут слепых...
Однако, пора переходить к Булатову и Кабакову.
Мне удалось найти лишь одну репродукцию вещи Кабакова: одной его картины из серии «Праздники». 1987 год.
Сцена, словно подсмотренная через окно сквозь
С. 117
ажурные занавесы с цветными лоскутьями на них. Лоскутья мешают видеть... Занавесы тоже не помогают... Но не беда. Хоть что-то благодаря художнику мы увидим в обычной жизни обычной семьи. Хоть что-то... А то ведь занавесы в действительности, как ни ажурны, в дневное время умеют-таки скрыть от внешнего мира, что там делается – в квартире, в частной жизни.
А скрывать, видно, есть что от внешнего мира... Во внешнем мире, как следует из названия, праздник. В праздник люди, приобщенные к празднику, покидают квартиру. Здесь – нет. Глава семейства, его половина и их отпрыск квартиру не покинули. Он, слегка отодвинув занавес (занавес другого окна, не того, через которое мы смотрим), отстраненно смотрит в то, другое, окно, вниз (видно, на энном этаже проживает семья). А жена и ребенок, отвлекаясь от своих занятий, посмотрели на главу семейства в связи, видно, с каким-то замечанием, отпущенным им по поводу происходящего во внешнем мире. Сын занимался ездой по комнате на трехколесном велосипеде, а жена – вышиванием.
И в доме у них праздника – а никакого. Стол пуст: гостей не ждут. Жена за вязаньем: не готовит праздничный обед или ужин.
Что-то красное свисает то ли на улице, видное нам сквозь два окна и куда посматривает папа, то ли в руках у сына... Возможно, сегодня политический праздник, в котором не хочет участвовать эта семья, как в празднике липовом, не настоящем.
В годы застоя надо было иметь уважительную причину, чтоб не выйти на майскую или октябрьскую
С. 119
демонстрации. Если б это изображались те годы – было б понятно, что происходит. Было б понятно, почему прямо прячась выглядывает в окно папа: он перед внешним миром сказался больным. Но год-то написания картины – 1987. Второй год перестройки. Официальные праздники уже покатились на убыль в 1987 году... Или это – в Средней Азии, где перестройка медленнее набирала силу? Вон и лицо мальчика (его лучше всех видно) уж очень раскосое, и очень уж чернявы и смуглы все трое.
«Сущность отечественного соц-арта, – написано от имени все того же Эпштейна на другой странице после этой кабаковской репродукции, – это мрачновеселое погребение тех идей, которые долгое время терзали народную душу тщетой невероятной власти, счастья, единства, победы. Это ударный марш, исполняемый на костяшках идей и поэтому перерастающий в похоронный».
И какая-то грусть чувствуется-таки в картине. То ли из-за флера занавеса и всеобщей нерезкости, мути, то ли от черных одежд персонажей (парадных или траурных?), то ли от безделья главы семейства (он явно не знает, куда себя деть).
Однако тут можно и поспорить с Эпштейном. Марш-то – траурный. Но что, если – из-за наступившего кризиса с идеалами: во что ж верить?
Уж лучше написано в сопровождающей статье (не Эпштейна) про Кабакова:
«...опыты «вживления» сиюминутных бренных смыслов в зону действия экзистенциально вечных ценностей».
С. 120
Ценностей... Чувствуете идеальный полюс!
Почитав мою самиздатскую книжку, всмотревшись во вклеенную в нее цветную ксерокопию кабаковской картины, С. Ф. Баранова, женщина, относящаяся довольно плохо и к коммунистам, и к коммунизму, указала мне на вопиющую, по ее мнению, ошибку: катается-то не чернявый мальчик, а седой старик, с усами и в очках, и, пожалуй, не на трехколесном велосипеде, с чем соглашалась и читательница, а на инвалидной коляске. Так если на велосипеде и с красной тряпкой на палке в руке, то, получается не грусть, а издевательство над выжившим из ума старым, видно, большевиком.
Действительно, чернявость катающегося это плод увлечения мыслью о ретро, еще во всю функционирующем в 1987 году в Средней Азии.
Но дело даже не в том, старик тут или мальчик, с флагом или без, на коляске или на велосипеде. Дело все же в неистребимой ноте грусти от присутствия в том или ином виде ущербного прошлого.
Не во что стало верить, и это плохо. А раз что-то оценивается как плохое, то есть, есть идеальный полюс.
Или вот – картина М. Рогинского «Эскалатор». 1982 год.
Три ленты движущихся ступеней, видно, в метро. Возле каждой горят лампы. Все три действуют. Но вверх поднимает лишь одна. А над ними – организующая надпись: «Стойте справа, проходите слева». Она разрешает некое разнообразие. Но... на словах. А на деле большинство данной свободой не пользуется. Зачем идти вверх, когда эскалатор сам поднимает? И люди стоят, стоят не только справа, но и слева. Все, как один. Тупо уставившись лицом в затылок друг другу.
Лишь один выделяется из массы. Он огромен. Два любых других лица поместилось бы на его лице. И рост – соответствующий. И он, единственный, повернул лицо и оно видно в профиль (у остальных – лишь затылки безликие). Этому исключительному человеку, наверно, и скорость подъема на эскалаторе маловата. Он бы, пожалуй, не прочь проскакать и через две ступеньки вверх, пусть и по движущемуся вверх же эскалатору.
Но нет же дороги! Нет места разнообразию, хоть на словах (буквально, написано ж) – есть.
Что ж это за призыв липовый!
Досада? – Досада. Можно ж было как-то более гибко отнестись организаторам. Например, зачем два пустых, действующих, видно, везущих вниз эскалатора? Пустили б вверх два, а не один, раз вверх людей так много. Или пусть стоял бы средний и на него желающих бы пускали. Мало ли, как можно распорядиться. Но этого нет, и – минором веет от
С. 122
картины.
А раз – минором, значит, подразумевается идеальный полюс.
Или взять того же Булатова. «Слава КПСС». 1975 год. Все пространство картины заполнено названными буквами скучного шрифта и бледной насыщенности алого цвета. Лишь по самым краям холста: снизу, сверху и слева – еле заметны края чего-то. Но буквы на этих краях не держатся. Они торчат в проеме между краями сами по себе, никак, ни по оттенку своему, ни «сюжетно» не соотносясь ни с краями (окна, что ли, через которое видны буквы?), ни с тем, что видно за буквами. А за буквами – живое голубое небо с разнообразными живыми облаками. И вот это-то небо застилает алая мертвечина букв.
Сопровождающий текст (продолжение вышеприведенной цитаты о Кабакове):
«Этот второй – не буквально-разоблачительный, а отвлеченно-философский план прочтения социальных реалий, «опрокидывающий» их в пространство незыблемых значений, стал «нервом» творчества Эрика Булатова... Драма столкновений нравственного и социального, вечности и тлена, разрабатываемая Э. Булатовым «по шкале» высоких ценностей и не «мимобежных» чувств, станет в середине 80-х центральной темой...»
Чувствуете идеальный полюс?
И действительно. Только и света в окошке, что славить КПСС – так можно переименовать картину Булатова. И в этом – горечь, как не просто негативен ненасыщенный и скучный транспарантный алый цвет
С. 124
букв, не привязанный к миру.
И хотя – вполне в духе первого этапа (есть и такой) соц-арта (а картина написана в 1975 году) – здесь чувствуется «преобладание фарсово травестийной интонации», «освобождение из-под гнета идеологических догм», но это именно преобладание фарсово-травестийной интонации (ибо есть и подразумеваемое утверждение – вспомните о положительной идее факта пробуждения отрицательных эмоций). И это не всяческое освобождение из-под гнета идеологических догм. Отрицается нечто вполне политически конкретное (в образе скучных букв «СЛАВА КПСС»). И утверждается нечто тоже достаточно конкретное, не «мимобежное», вечное, нетленное: красота природы, красота органического, настоящего – облачное живое небо, фон букв.
И то же в другой картине Булатова – «Знак качества». 1986 г. Опять живой, с пристрастной любовной подробностью написанный клок неба: синий просвет между облаками в солнечный день. И на этом просвете стоит знак качества, бытовавший в СССР, введенный для советских изделий, когда... стало повсеместно ясно, что в мире советское стало синонимом некачественного.
И буквы «СССР» на знаке уже истаивают... Что? Нет и тут горечи у автора? Только ли насмешка? Не чувствуется разве, что он не открещивается от идеального полюса как такового, и что его искусство – не антиискусство?
Соц-арт – искусство типа маньеризма. В нем остается еще какая-то вера, в сверхбудущее некое. В нем еще остается отзвук идеала.
С. 126
И я б вывел соц-арт за пределы авангарда и за пределы «отрицательного», апофатического авангарда, если правомерно такой выделять.
Я подытоживаю
В общем, подозреваю, не правомерно нарекать авангард апофатическим. Как и катафатическим.
Ведь сравнивает Эпштейн авангард – с теологией, учением о Боге, о чем-то высоком и позитивном. И когда апофатическую теологию называют отрицательной, то называют не за отвергание Бога, позитивного, как такового, а за отрицание антропоморфности Бога, явленности Его человеческим органам чувств.
Похоже ли это на тот символизм или, скажем, соц-арт, что предвзято подходят ко всякой «прекрасной» идее, как к идее лишь в кавычках прекрасной, а на самом деле, мол, еще разберемся и, разобравшись, определяющие ее в качестве не прекрасной, ориентируясь на что-то все же действительно прекрасное, хоть и невыразимое? – Похоже.
Так зато символизм и соц-арт есть искусство.
Более того, любое идеологическое искусство (и с идеалом высоким, и с низким) поскольку выражают идеал, идею, то есть нечто в большей или меньшей мере безо`бразное – любое искусство сходно с теологией: приземленное – пусть с катафатической, возвышенное – с апофатической.
А разве похожи концептуалистские произведения «Мусорный роман» и «Мусорный человек» в своем итоговом «возвышении» чувств хоть бы и на отрицательную, апофатическую теологию, общий итог которой – положительный, а именно: Бог это Сверх-
С. 127
жизнь, Сверхкрасота, Сверхблаго, Сверхмудрость, Сверхбытие, Сверхсущество? – Не похожи. Потому не похожи, что «написав» своими «мусорными» произведениями: «Человеческая жизнь бессмысленна», – «написав» без восклицательного знака, без отчаяния, Кабаков не подразумевает идеального полюса.
Заметьте, я не пеняю Кабакову, что он взял подчеркнуто неэстетический материал – мусор. Одна из первых живописных работ так называемого современного искусства, открывшаяся мне, еще в оттепель, в 60-х годах, была изображение захламленного двора. Но краски были такие контрастные, в том числе и яркие, что впечатление получалось прямо обратное хламу – «Счастье! Да здравствует жизнь!»
А у Кабакова мусор (аккуратностью обращения с ним) не развоплощается в нечто далекое от мусора. «Человеческая жизнь бессмысленна» – это от мусора не далеко ушло. Аккуратная форма, призванная, если можно так выразиться, отсутствием идеала, ничего особого не может сделать со своим материалом. Искусство же – как фотон, родившийся от уничтожения в столкновении электрона и позитрона.
По противоположности вспоминается, какие чудеса может делать неаккуратная форма, если она призвана идеалом.
Когда в застой, на Малой Грузинской в Москве ютилось оппозиционное искусство, я видел в стиле арте-повера (бедного искусства) из мешковины сделанную хоругвь... Это вполне соответствовало загнанному положению церкви в тогдашнем СССР и вызывало уважение к ее мужеству.
Или еще. На упоминавшейся оттепельной выставке
С. 128
я, подустав, проходил мимо очередной мазни, и вдруг чем-то она меня задержала. Чем? Я остановился. Абсолютно ничего не видно, кроме хаоса разноцветных мазков. Я двинулся дальше. Однако, когда я отводил глаза от холста, что-то опять меня задержало. Что же? Я вернулся, не сделав и полшага, и всмотрелся. Хаос мазков. Ничего не видно. Совсем. И я пошел. И опять такой же странный эффект. Тогда я понял, что глядеть надо нарочито невнимательно, скользя взглядом, не пристально на мазок за мазком, а на все сразу. И – увидел вообще знакомое мне место: ялтинский пляж с Ай-Петри на дальнем плане. Мазки были рябь волн, каша из гальки и заляпанных то солнцем, то тенью человеческих тел, а также дрожащей в летнем мареве далью Ай-Петри были мазки. Я посмотрел название – «Ялта. Ай-Петри». Что-то такое было написано. И то ли оттого, что я пришел в восторг от своей победы, то ли оттого, что так хотел художник и добил меня, я – тогда северянин – переназвал для себя эту картину – «Кипящее счастье лета на юге». А, казалось бы, так небрежно наляпаны мазки.
Вот что такое развоплощение материала формой во имя идеала, в первом случае (с грязным двором) – возвышенного, во втором (с Ялтой) – достаточно низкого.
Концептуальное же искусство (не соц-арт), по одному определению, мол, – демонстрация документов подчеркнуто внеэстетического характера, видимо, искусством-то и не является. Ибо не имеет идеала. Не развоплощает в «мусорных» произведениях аккуратность все эти талончики, квитанции, билеты – в возвышающее над материалом и формой переживание, в
С. 129
нечто, имеющее название ИДЕАЛ.
И не потому, думаю, не развоплощает, что Кабаков – неумеха. В «Праздниках» он сумел все, что хотел. И не потому не развоплощает, что в данном случае – не получилось. Кабаков в здравом уме. Не получилось бы, что хотел, – не выставил бы. А потому не развоплощает, что некуда было возвышать нас Кабакову в ту именно минуту, когда он «творил» свои «мусорные» произведения, и в ту, когда их выставлял.
Искусство – по происхождению своему – призвано совершенствовать человечество. Когда природа еще колебалась: оставлять ли ей развитие неандертальца на произвол естественного отбора или открыть ему путь социального развития, предлюди, изобретя искусство как средство самосовершенствования, прекратили эти колебания. И именно по наличию предметов искусства в археологических раскопках кости ископаемых существ (если сомнительна идентификация) считают принадлежащими уже homo-sapiens-у, а не еще неандертальцу.
И вот, давайте представим, для какой цели человечеству понадобилось бы общественное приспособление, не возвышающее, а снижающее переживания от противоположно действующих элементов: материала и формы (например, хлама и аккуратного размещения в «мусорных» произведениях Кабакова)? Для какой цели человечеству могло бы понадобиться антиискусство? – Для доживания (не для жизни) в видах всеобщей гибели. Тогда лишь человечеству нужно нечто, внушающее, что после него – хоть потоп.
И человечеству тогда именно антиискусство нуж-
С. 130
но, а не искусство с низким идеалом. Низкое – нужно человечеству, имеющему будущее. Например, неандертальцы чуть вообще не исчезли с лица земли из-за табу (запрета) на половую жизнь в стаде в периоды интенсивной хозяйственной (значит, общественной) деятельности, которые стали чуть не сплошными. То табу было прототипом аскезы высокого идеала в искусстве, и понадобилось что-то каким-то образом противоположное, низкое, чтоб спастись неандертальцу как виду, понадобилось ненарушающее нарушение табу: табу, мол, не распространяется на особей чужого рода, с теми, мол, можно спариваться. Это, может, низко или соединение высокого с низким. Но это не античеловечно.
Вот в глобальности все и дело. Человечество в целом еще ни разу не доходило до безнадежного состояния. Кто-то (та или иная группа художников, но обязательно небольшая), может, и доходит до крайне безнадежного и практически актуального для себя мнения о человечестве. Но человечество-то их переживаний не разделяло никогда, даже в ХХ веке с его апокалиптическими социальными и другими катастрофами.
Вот и получается, что в антиискусстве объективной потребности нет. А значит – и самого антиискусства нет, есть лишь заявки. А то, что на такое название претендует, есть, с точки зрения человечества, просто неискусство. И таким его делают сами художники, смутно чувствуя неавторитетность своей установки для человечества.
Человечество достаточно несерьезно не только в отношении своей обязательной гибели в очень отдаленном будущем, но и в отношении вчерашней перспективы термоядерной войны, сегодняшнего спида, завтрашней экологической катастрофы. И так было всегда. Впрочем, может, именно вследствие практической несерьезности и человек в отдельности, и
С. 131
человечество в целом способны вообще жить день за днем: впереди-то – смерть.
Еще Немного об «отрицательном» авангарде – концептуализме, мол, поэзии
И все-таки некую занозу Эпштейн оставлял в моем сознании.
В одной его книге есть подраздел «Концептуализм», где – к удивлению моему – он дает (опять дает!) содержательный разбор нескольких стихов в стиле, мол, концептуализма.
Вот стих:
Неважно, что надой
записанный
Реальному надою
не ровня
Все что записано
– на небесах записано
И если сбудется
не через два-три дня
То через сколько
лет там сбудется
И в высшем смысле
уж сбылось
А в низшем смысле
все забудется
Да и уже почти
забылось
Д. Пригов. Рубеж 70-80-х годов
А вот разбор:
«В этих строках – характерное для концептуализма сращение «газетного» и «мистического» жаргонов: один перерастает в другой («записано» в отчете – «записано» на небесах), раскрывая сам процесс мистификации повседневной реальности, которая превращается в нечто возвышенно-непостижимое, предрешенно-неминуемое – а то, что остается в ней от реальности как таковой, уж настолько несущественно, что подлежит забвению. Многие приговские стихотворения строятся именно так: начинаются каким-то обыденным и злободневным фактом, а затем неистово экзальтируют
С. 132
его, возводят в некий риторико-провиденциальный план, обнажая попутно его реальную заурядность и ничтожество... И заканчивается ритмическим сбоем, каким-то вялым жестом, проборматыванием этого факта в рамках обыденного сознания, которому уже все равно, как и о чем мыслить и высказываться, нас только реальность для него развоплотилась, утратила свое значение и субстанцию: «Да и уже почти сбылось».»
Или еще пример:
Течет красавица-Ока
Среди красавицы-Калуги
Народ-красавец
ноги-руки
Под солнцем греет
здесь с утра
Днем на работу
он уходит
К красавцу черному
станку
А к вечеру опять
приходит
Жить на красавицу-Оку
И это есть быть
может, кстати
Та красота, что
через год
Иль через два,
но в результате
Всю землю красотой
спасет
«Сколько лирических песен и помпезных стихов сочинено на этот сюжет, потрясающий своей монументальной простотой! Приговский концепт – общее место множества стереотипов, блуждающих в массовом сознании, от идиллически-благоразумного «окрасивленья» родного пейзажа до пародийно сниженного пророчества Достоевского «красота спасет мир». Концептуализм как бы составляет азбуку этих стерео-
С. 133
типов, снимая с них ореол творческого паренья, высокого воодушевленья, обнажая в их вульгарной знаковости, призванной стимулировать простейшие реакции любви и ненависти, «за» и «против». При этом используются минимальные языковые средства, демонстрирующие оскудение и омертвение самого языка, вырожденного до формулировок ходовых понятий. Косноязычие оказывается инобытием велеречивости, обнажением ее сущностной пустоты. Концептуализм, безусловно, отражает реальности той среды, в которой возник и распространился, – точнее, ее мнимые, пустопорожние «идеальности».»
Что ж выходит: палочка-выручалочка внятности и конкретности на этот раз не действует, как с символистом Чюрленисом и с соц-артистами? Внятно и конкретно абсолютное отсутствие идеала «мусорных» произведений Кабакова, мусороязычных стихов Пригова...
Заноза.
А Эпштейн добивает:
«Концептуализм опирается на вполне почтенные традиции... поэзию обэриутов, прозу М. Зощенко. Вместе с тем нужно видеть и сдвиг, произведенный концептуалистами... У Зощенко... массовое сознание персонализируется в каком-то конкретном социальном слое... и в образе конкретного героя, говорящего обычно от первого лица. Концептуализм чужд такой локализации – социальной или психологической, вычленяемые им структуры и стереотипы принадлежат не конкретному сознанию, а соз-
С. 134
нанию вообще, авторскому в той же степени, что и персонажному. Поэтому концептуальные произведения никак нельзя занести в разряд юмористических или иронических, где автор устанавливает некую дистанцию между собой (или, что то же самое, областью идеала) – и осмеиваемой действительностью».
Знакомый упор против идеала, идеала, которому «Эпштейн противится с нечеловеческим упорством».
Но тут-то, кажется, и можно Эпштейна поймать.
Давайте согласимся, что Эпштейн прав, и Пригов себя не отделяет от бытующего советского (именно советского) массового стереотипного сознания. И вот выражает разочарования homo-советикуса.
Так только ли тут разочарования?
Сейчас, – при крахе марксизма-ленинизма, социалистического лагеря, СССР, советской власти, компартии, – уже всем видно то, что смутно чувствовал Пригов еще за 10-15 лет до нынешней реставрации капитализма. А как этот крах переносит homo-советикус, чувствующий непобедимую привязанность к социализму как справедливости? Что, если прав теоретик, считающий, что в октябре 1917 года (политической революцией) началась на планете социальная коммунистическая революция, которая продлится (хоть и не так долго, как предыдущая – эксплуататорская – несколько тысячелетий, но продлится) несколько сот лет. И что, если обычный homo-советикус интуитивно предчувствует предсказание теоретика. Как он тогда относится к факту вполне открывшейся ныне иллюзорности своего мировоззрения? Что, если при всем разочаровании, сарказме, иро-
С. 135
нии, юморе он переживает нечто, что сам Эпштейн иронией и т. п. не называет? И что, если сам Пригов когда-то то же, пусть неосознанно, да переживал?
Жертвуя карьерой, презирая липовость октябрьских демонстраций, я на демонстрации не ходил в течение всего застоя. Но в 1990-м году, чувствуя, что это – последняя, я пошел, ибо в социализме как справедливости не разочаровался при всем том, что так называемый реальный социализм себя дискредитировал явно. Пошел один. И опишу не себя, а другого, тоже пришедшего одним, – пожилого человека, которого реальный социализм измучил гораздо больше, чем меня. Он хромал. В поры его лица навеки въелась угольная копоть. Почти с самого общественного низа человек. Он примкнул абы куда к колонне безразличных к происходящему демонстрантов и доверчиво оглядывался на окружающих, надеясь, что те – его единомышленники, не поминающие лихом тот строй, который столько зла ему наделал. Он не вполне разбирался в действительности. Но такая блаженная улыбка блуждала на его лице, что казалось – он из тех юродивых, что предвидят далекое будущее, но не ставят себе задачи немедленно ввести окружающих в свою веру. Это такому человеку соответствуют примитивы Пригова, косноязычие, отсутствие знаков препинания и т. п.
И все это у Пригова – в русле еще более старинных, чем зощенковские, стилистических реформ, сопровождавшихся, «в частности, разрушением традиционного авторитетного авторского слова и модернистским возвышением несовершенного, а подчас и уродливого слова, слова персонажа. В прозе – у Го-
С. 136
голя, Достоевского... Платонова; В поэзии – у Кузьмы Пруткова, Блока «Двенадцати», Хлебникова, Маяковского... обэриутов... и конечно, у Зощенко» (Жолковский).
И как ближайший из предшественников Пригова, Зощенко, «не ограничивался чистой иронией по адресу новой [социалистической] культуры [по адресу, зачастую, просто бескультурья]» и совсем неконъюнктурно «в его [Зощенко] голосе всегда звучала нота подлинно примитивного отказа от «проклятого дореволюционного прошлого» в пользу новых «простых ценностей» » (Жолковский), так – и в слиянности голоса Пригова с примитивом.
И что-то уж больно упорно этот Пригов долбит то одну, то другую иллюзию homo-советикуса (и больше никого, не то что Чюрленис – разные мировоззрения). Пригов одно мировоззрение испытывает и испытывает, и убеждается, что не выдерживает оно, а все равно испытывает снова и снова. Как в игре «холодно-горячо»: не хочет отойти от места, где уже тепло.
И я подумываю, что не концептуализм у него, а литературный извод соц-арта в живописи, только что описанный. И, пожалуй, как в живописи – амбивалентна заглаженность (не только фальшь государственных муз, но и тонкая нить сверхисторического оптимизма в основательности академизма), так и тут: «окрасивливание», «возвышенно-непостижимое», «предреченно-неминуемое» – двусмысленны. Ну, что из того, что не через год и не через два красота спасет мир; ну, что из того, что не через два-три дня сбудется «записанное» желаемое!.. Сами эти два-три
С. 137
дня, год-другой – столь ограниченный срок... Это не только издевательство, но и затаенная вера.
И, конечно, при реставрации капитализма не предпринимателям и им сочувствующим вот этак Пригова почувствовать, а самым безнадежным в благополучии. Значит ли, что эти последние опять заблуждаются? – Нет.
Так что я бы и Пригова назвал соц-артистом и отлучил его от совершенно лишенного идеала концептуализма.
Одна слабость сквозит в моих различениях разочарования: художник, уверовавший в некое Сверхбудущее, настолько благополучен, что как же ему перейти к спокойному же, но безверию? Вон – Кабаков: «Праздники» и... «мусорные» произведения. Или – как перейти к беспокойному практическому безверию (футуристические скандалы Маяковского)? Как ультраверящий заскакивает в декадентство или в авангардизм, в модернизм, одним словом?
Психологической неустойчивостью художника под влиянием социальных потрясений я объясняю себе такие скачки.
Ну, а у Пригова что? Предчувствие Реставрации? Или психологическая неустойчивость срабатывает и от мизерных причин, как порча проектора у той поэтессы-по-Рериху?
Так или иначе временны`е скачки от искусства к неискусству и обратно могут быть мизерные.
И возможна инерция: сохранение художественности в опусе без идеала («По дороге во Вщиж»), сохранение внятности («Мусорный роман», «Мусорный че-
С. 138
ловек»), а в вещах не без теплящегося идеала (как у Пригова) – отсутствие художественности.
Да! Искусство – это непосредственное и непринужденное испытание сокровенного мироотношения человека с целью совершенствования человечества (Натев). Вещи же Пригова, которые представил Эпштейн, это вытяжки идей. Не непосредственное. Пригов и отталкивается-то от произведений неискусства (от иллюстраций неких идей, от иллюстраций, «пугающе похожих на живого человека», но все же – иллюстраций). И Пригов, в своей духовности отвергающий то неискусство, залетает в неискусство другое.
Это, впрочем, не впервой с маньеризмом случается. В проповедь, в учительство впали в конце концов Гоголь, Толстой, «аналогичен и путь Зощенко: игриво-амбивалентное чтение наивной советской морали в рассказах 20-30-х годов сменилось затем серьезным, однозначно авторитетным словом, с одной стороны в «соцреалистических» повестях 30-х годов, а с другой – в таких научно-автобиографических книгах, как «Возвращенная молодость» и «Перед восходом солнца». Последняя к тому же повела к отлучению ее автора от официальной идеологии (как это было у Толстого с церковью и у Гоголя с лагерем Белинского)» (Жолковский).
Вот и Пригов – не без учительства: воюет и воюет он с дрянным реальным социализмом (когда тот еще казался прочным):
Всем своим вот
организмом
Сколько он сумеет
мочь
Я хочу быть коммунизмом
Чтобы людям здесь
помочь
С. 139
Чтоб младую дорогую
Не растрачивали
жизнь
Чуть родились
– а я вот он:
Здравствуй, здравствуй
коммунизм!
1988 г.
И если он будет и дальше продолжать такое, то вряд ли поладит с так называемыми демократами, пришедшими на смену коммунистам.
Я подытоживаю окончательно
Споря с Эпштейном, я до сих пор опирался на его же разборы произведений или на свои разборы вещей тех художников, которых упоминает сам Эпштейн. Однако, было бы полезно поговорить о таких не названных Эпштейном деятелях и таких работах, которые вернее всего можно было б заподозрить в принадлежности к апофатическому авангарду, если б тот существовал: о Белютине, например, и его совершенно неизобразительных каляках-маляках, некоторые из которых еще и с абстрактными названиями: «Композиция N 15» и т. п.
Есть такое течение под названием минималь-арт (в живописи – постживописная абстракция – холсты, равномерно окрашенные, расчлененные большими орнаментальными и упрощенными формами). Так вот если в некоторых эпштейновских рассуждениях заменить слово «концептуализм» на «минималь-арт», то на какое-то время можно задуматься: может, и вправду есть апофатический авангард.
«Незнание «открывает мрак таинственного безмолвия, превышающий всякий свет» (Псевдо-Дионисий. «Таинственное богословие»). Вот почему всякий просветительский экстаз перекрывается и снимается [минималь-артистскими]
С. 140
приемами... чтобы вести в глубь мрака, превышающего свет, в глубь неясности, превышающей ясность... Ведь Сверхценность (она же Не-ценность) молчит, и чем больше слов о ней мы закавычим, тем больше приблизимся к ее «авторскому» слову о себе, которое есть молчание, то есть пребывание в самой себе и наше пребывание в ней. Слушать [минималь-артистские] сочинения – значит через скуку и душераздирающую пустоту... вслушиваться в немоту, вглядываться во мрак, глохнуть и слепнуть, приближаясь к Абсолюту как отрицанию всех утверждений. Такое изложение Абсолюта «по мере восхождения приобретает все больше сжатости, а достигнув цели восхождения, и вовсе онемевает и всецело соединяется с неизреченным» («Таинственное богословие»).»
Все это особенно здорово звучит, если отнести процитированное к украшениям мечетей: орнамент с каллиграфическими надписями на стенах священных фраз о Боге.
Орнамент, этот вид прикладного (неидеологического) искусства, действительно родом из идеологического. Так, вода для многих южных народов была священна, и священным считалось и такое изобретение, как глиняный сосуд для воды. Сосуды же поначалу были, для прочности, с каркасом из прутьев. Когда же научились глине прочность придавать обжигом и следы прутьев (вместе с каркасом) исчезли с сосудов, то специально для выражения идеи священности воды процарапывали узоры, напоминавшие былые следы прутьев.
С. 141
Так что орнамент вполне может выражать высочайшее. Однако, одно но. Надо, чтоб непрерывная традиция связывала такой-то орнамент с такой-то высокой идеей, чувством, переживанием, мистическим откровением. Искусство должно быть каноническим. В нем, строго говоря, и не орнамент может быть, а любые изображения (умопостигаемо – по канону – выражающие огромные вещи). И потому Роднянская совершенно права, противопоставляя эпштейновской апофатичности «учение [того же Псевдо-Дионисия] о явленной тайне, без которого было бы невозможно средневековое искусство».
А если Белютин, скажем, сегодня изобрел свои каляки, а завтра выставил их на вернисаже – кто постигнет, что именно он хотел зрителям передать? И почему нужно перед белютинской «Композицией № 1» настраивать себя на нечто высокое, сверхвысокое, если рядом висят почти такие же каляки-маляки с названиями «Мать и дочь», «Сестры»? И я слышал про эту «Мать...» и «Сестры» совсем не возвышенные и довольно мотивированные рассуждения эрудита, мол, вот эти фрагменты каляк общи для обоих маляк, «Матери» и «Дочери», значит, они – родные, несмотря на вроде бы разницу других каляк. А вот там, где «Сестры» – полная, казалось бы, разница маляк обнаруживает все же сходство в некоторых каляках, и, значит, они по-иному родные.
Все это, однако, подозрительно близко к платью андерсеновского короля. Тем более, что всегда находятся подлипалы, готовые к самому искреннему самообману, только б не прослыть отставшими от моды.
И я опять вынужден согласиться с Роднянской:
С. 142
«А больше всего эпштейновские апелляции к скрытой, ничто-образной... «Сверхценности» напоминает высмеянное В. Соловьевым в «Трех разговорах» сектантское «дыромоляйство»; провертеть в стене дырку и приговаривать: «изба моя, дыра моя, спаси меня»...»
Я троеточие перед «Сверхценностью» в цитате поставил, ибо опустил: «лишенной всех идеальных свойств». У Эпштейна же не минималь-арт, к которому допустимо все же примыслить идеальные свойства. У Эпштейна концептуализм, к которому их, мол, нельзя примыслить. И потому я не согласен с аналогией, предложенной Роднянской – с сектантством. Сектантство все же с чем-то высоким связано. А Эпштейн же не говорил о минималь-арте. Он настаивал на антиискусстве. Значит, в теологических аналогиях Эпштейну надо отказать. Если уж хочется религиозных аналогий – пусть довольствовался бы ересью дуализма (мир, мол, опирается на два равносильных начала: добро и зло), т. е. на то в теологии, где отсутствует идеал.
Свою новомирскую статью Эпштейн начал заставкой, почему это, мол, Марсель Дюшан, один из основоположников западноевропейского авангардизма (а надо бы проверить – не из продолжателей ли декаданса), раздражался, когда его спрашивали, верит ли он в Бога, и раздраженно заявлял о своем атеизме. Понимай, он – подсознательно верующий, и его работы это подсознательно же и выражают, вот сознание и бунтует; правда глаза колет.
А ведь можно объяснить все иначе. Вероятнее всего, что интервьюировали Дюшана не тогда, в 1917
С. 143
году, когда не разрешили ему выставить простой писсуар под названием «Фонтан», а когда он стал признан и знаменит. Мы же уже знаем свойство и декаданса и авангарда, вызвав скандал поначалу, вписаться потом в человеческую культуру.
Дюшановский дадаизм, возникший наверно в связи с бесчеловечной первой мировой войной, будучи чисто нигилистическим течением, думал найти в публике тех, для кого актуален конец человечества. Мировая же война – кончилась. Человечество – как было в общем легкомысленным, таким и осталось. А художники восприняли дадаистские приемы использования готовых вещей.
Например, поп-арт. Выставляется натуральный, хорошо послуживший унитаз с принципиально иной подписью: «Для отправления нужд духовных и эстетических», блевать, мол, в него от отвращения к вещизму, от отвращения, которое авангардист поп-артист вознамерился немедленно внушить погрязшей в вещизме же публике.
И – жизнь покатилась дальше. Худо-бедно, но не так, чтоб уж совсем без человеческого идеала. И Дюшан – при этой жизни – в почете.
Вот если вы сделаете кому-то пакость, а он не поймет и станет вас благодарить. А вы еще не дошли до состояния, когда совсем уж на все-все наплевать ввиду гибели человечества? – Будет вам удобно выслушивать благодарность?..
Так что и лишившимся идеала, от Тютчева до Дюшана, не чуждо считаться еще с людьми.
Одесса. Январь 1991 – сентябрь 1991
| Главная | Библиография | Рабочая группа | Тютчев в прямом эфире | Ссылки |
| Генеалогическое древо | Работы по Тютчеву | Стихотворения Тютчева | Переводы |
|
|
© Разработчики: Андрей Белов, Борис Орехов, 2006. Контактный адрес: [email protected]. |